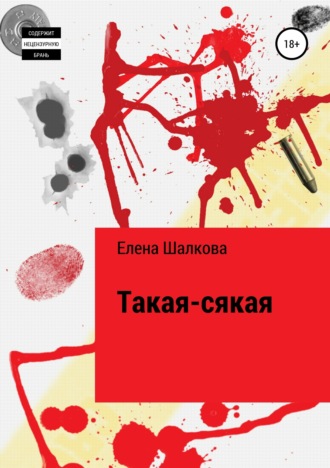 полная версия
полная версияТакая-сякая
– Этих дур разопрет в две огромные хари.
Лежим с Сережей в нашей знаменитой трехместной кровати, ждем, когда луна покинет оконный проем. А она возьми и освети бутыли! Две раздувшиеся перчатки медленно покачивались в приветствиях друг другу. Сережа, давясь от смеха, сказал:
– Ну и хари!
Как же мы долго смеялись, и до сих пор смеемся.
На стенах дачного дома висят и согревают душу вышивки моих бабушек. Над папиной кроватью – вышитый портрет Горького. Вылитый «Федор», только с усами.
– Пап, я тебе друга твоего над кроватью повесила.
Каждый раз, невольно взглянув на вышивку, я вижу и вспоминаю «Федора».
***
Ну вот, наконец-то рука потянулась к «Новому миру». Несколько месяцев журнал ждал меня. Или я его?
Дочитываю Дневник Чуковского, и в самом конце вспоминаю, что я его уже читала и, скорее всего, не один раз, потому что давно рассказываю близким и знакомым, как Ахматова в голодные двадцатые годы отдала бутыль с молоком Чуковскому для детей. Чтобы стать Ахматовой, одного таланта мало. Обернутый в обдумывание эпизод с молоком задержался в памяти. Дневник перечитала с удовольствием, потому что в нем передан дух времени, взгляд умного человека на литературу, отечественную и зарубежную, но уже сейчас, по прошествии недели, хоть снова начинай, – пораженная старческим маразмом память не держит информацию, не наталкивающую на размышления. Дневник – не воспоминания.
Мысли переместились с крыльца в городскую квартиру, где я с осени до весны писала воспоминания – размышления, которые много во мне изменили, помогли собрать воедино, в одну картину все, что варилось в моей голове и душе целые годы и имело прямое отношение к смыслу жизни. И каково было мое удивление, когда через месяц по телеканалу «Культура» я услышала филолога Б. Аверина, излагающего свой взгляд на литературные воспоминания как на собирание личности в процессе активного взаимодействия «сегодня», «вчера» и «допамяти». Венцом моих размышлений стала тоже «допамять», но как тоска каждой души по потерянному Раю. Книга Аверина, в основу которой легла его докторская диссертация, так и называется «Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции». Пока достать ее я не смогла, но читаю в электронном виде. В толстовском гениальном «восторге бытия», услышанном тогда от Аверина и пропущенном в молодости, я сразу узнала много раз вроде бы беспричинно посещавшее меня чувство. Как можно словами передать внезапно нахлынувшую на тебя цунами радости? У Толстого всего два слова – «восторг бытия», а точнее не подберешь. Прибавлю еще одну деталь, подтверждающую тот факт, что сходные мысли друг друга находят. Лекция Аверина состоялась ровно в день рождения моей соседки по даче Люды, архитектора, которую я, из-за передачи, задерживалась поздравить. Сижу, пораженная совпадениями, перед телевизором и повторяю:
– Не может быть…
Раздается звонок, Люда взволнованным голосом спрашивает:
– Ты смотришь канал «Культура»?
– Да. Да. Позже позвоню.
Быстро забегаю в комнату мужа:
– Смотришь «Культуру»? Там про меня.
В ответ слышу голос Аверина.
Что бы еще прочитать? Смотрю оглавление журнала. Л. Петрушевская «Песни восточных славян (московские случаи)». Их я тоже читала раньше. Но – снова, как в первый раз! Какие-то странные в духе пионерских лагерей «страшилки». И стилистика соответствующая. Но одна из «страшилок» заставила прервать чтение. В ней я нашла подтверждение своим весенним мыслям по одному неприятному для меня поводу на тему: «Можно ли по немногословному высказыванию составить мнение о человеке?». «Страшилка» Петрушевской – наглядный пример, к чему может привести неверное из-за недостатка информации и додумывания умозаключение. Героя оно приводит к жизненному фиаско и сумасшествию.
Додумывание – опасная вещь. Во-первых, сам субъект додумывания может подвести. «Не суди по себе», гласит мудрый императив. Часто человек слышит то, что способен, готов или хочет услышать, каждый раз при додумывании искусственно подтверждая созданные им самим стереотипы, не сомневаясь в их ошибочности, упуская из виду или упрощая посыл сказанного. Ему так удобно и комфортно.
Что касается объекта, – невозможно полноценно облечь мысль в слова. Об этом столько передумано и написано умнейшими людьми, что и не хочется повторяться. Для меня важнее психологическая подоплека. Известно, что в разных ситуациях человек играет определенную роль. Вынужденная смена или сшибка ролей, новые люди, затронутая в разговоре необычная тема, желание показать себя с лучшей стороны и т.п., – могут вызвать внутреннюю сумятицу и породить сырую мысль, облеченную в неудачно подобранные от волнения или отсутствия богатой лексики слова. Исказить смысл сказанного может даже интонация, вызванная головной болью или плохим настроением.
Как хочется обо всем этом поговорить с одним моим знакомым! Сказать ему, что общение с установкой на превосходство, в котором оценивают, сравнивают, подгоняют под стереотипы, – для меня в тягость. Привести пример с любящим или доброжелательно настроенным человеком, который вообще не нуждается в премудростях психологии общения, потому что он сердцем настроен на волну собеседника; он не сделает по одной фразе категоричных выводов, а попытается уловить проявление сущности.
Весной я посмотрела по каналу «Культура» телеспектакль «Раньше» Владимира Мирзоева с кружевной игрой Максима Суханова и Ольги Яковлевой. Вот прямо на эту тему. Встретились два айсберга. Верхушечки общаются. С уходом в зазеркалье, которое талантливо сконструировал режиссер минимальными телевизионными средствами. «Плывем параллельно», – поясняет зрителю герой Суханова. Очень тонкий спектакль.
За Петрушевской – стихи Ларисы Миллер. Ну что это такое! Уже устала поражаться. Дней десять назад муж принес «Новую газету» с восторженным откликом Зинаиды Миркиной на новый сборник стихов Ларисы Миллер. Я залезла в Интернет и стала читать стихи. Через неделю по той же «Культуре» в передаче Игоря Волгина – та же Лариса Миллер. Внешность соответствует содержанию, сразу отметила я. Вскоре на даче еще одна соседка, очень хороший глубокий поэт Лариса Адлина, рассказала, как к ней в руки попал сборник эссе Ларисы Миллер, в частности, с разбором стихов В. Набокова и Г. Иванова. Мы с мужем переглянулись. Я тут же прочитала эссе в Интернете.
Для чего-то появилась Лариса Миллер на моем горизонте. Пока не поняла.
Куда меня дальше заведет вырвавшийся на свободу поток запечатанного дневными шлюзами сознания? Упомянутая Люда-архитектор последние годы занималась вопросами развития города Зарайска. Она восторженно рассказывала о зарайских красотах, о том, что там даже небо другого цвета, – вот я в период моего умопомрачения и подумала построить дачу именно в тех краях. Муж, увлеченный хокку, по этому поводу сочинил:
Живи в Зарайске
На берегу пруда,
В зеркальном карпе
Отражаясь.
Часто на даче с образовательной целью мы с внучкой играем в буриме. Как-то я задала уж очень изощренные рифмы, и у мужа получились такие стихи:
Поздняя осень
Ласточка направила свой клювик
На зимовку в славный город Любек.
А в полях соломенный тюфяк
Приготовил маленький хомяк.
Бессонная ночь
В наступившей ночи снова ноет мозоль.
Наметает сугробы противная вьюга.
На замерзшем окне намокает фасоль.
И часы на стене гонят стрелку по кругу.
Вот такой у меня муж. Сходу выдает шедевры. «И часы на стене гонят стрелку по кругу». Прямо тютчевская глубина («О чем ты воешь, ветр ночной»?). Что это за часы? И по какому неотвратимому кругу они гонят стрелку? Раз гонят, значит, она сопротивляется. Чему?
Один старик-поэт из пьесы Тенесси Уильямса «Ночь игуаны» тоже искал ответа на подобные вопросы и никак не мог закончить своего последнего стихотворения: не хватало заключительной строфы, которая позволила бы ему удовлетворенно завершить земной путь. Как нашел, так и умер с улыбкой на лице. Улыбка была не в пьесе, а в знаменитом фильме с Ричардом Бартоном и Эвой Гарднер, который я посмотрела два раза, но и за два раза не успела записать стихотворение. Стихотворение так поразило меня, что я в Интернете прочитала всю пьесу, распечатала стихотворение и выучила его наизусть. Потом муж нашел два варианта этого стихотворения на английском языке. И я поняла, что русский перевод стихотворения безупречен. Но кто поэт – неужели сам Тенесси Уильямс? И кто переводчик?
Когда я смотрю на старую яблоню, которую муж обкорнал так, что она из развесистой красавицы с изысканными изгибами ветвей превратилась в однобокую «шапку набекрень», то думаю – я ее переживу или она меня. И всегда, глядя на нее с грустью, вспоминаю то поразившее меня стихотворение, которое начинается словами «Ветвь апельсина…», в другом варианте – «Ветвь оливы…». Но ведь можно и «Ветвь яблони…».
How calmly does the orange branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
Sometimes while night obscures the tree
The zenith of its life will be
Gone past forever, and from thence
A second history will commence.
A chronicle no longer gold,
A bargaining with mist and mould,
And finally the broken stem
The plummeting to earth; and then
An intercourse not well designed
For Beings of a golden kind
Whose native green must arch above
The Earth’s obscene, corrupting love.
And still the ripe fruit and the branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
O Courage, could you not as well
Select a second place to dwell,
No only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
Ветвь апельсина смотрит в небо
Без грусти, горечи и гнева.
Она, безмолвие храня,
Следит за угасаньем дня.
В какой-то вечер, с этим схожий,
Она пройдет зенит свой тоже
И канет в ночь, и вновь начнет
История круговорот.
И будет ствол еще годами
Вступать с жарой и холодами
Все в ту же сделку, а затем
На землю ляжет, тих и нем.
А после дерево другое,
Зеленое и золотое,
Шатром листвы укроет вновь
Земную, грязную, любовь.
И смотрит ветвь с плодами в небо
Без грусти, горечи и гнева.
Она, безмолвие храня,
Следит за угасаньем дня.
О, сердце робкое, ужели
Не выучилось ты доселе
Отваге тихой и простой
У этой ветви золотой?
Приезжая на дачу, я первым делом привожу в порядок крыльцо. Здесь я буду заниматься с внучкой математикой, русским и английским, играть в «Эрудит», пить чай в дождливую погоду. Здесь я буду каждый день смотреть сквозь листья дикого винограда на заходящее солнце. «Она, безмолвие храня, следит за угасаньем дня». И всегда дальше: «В какой-то вечер, с этим схожий, она пройдет зенит свой тоже…». Как перевалило за шестьдесят, все мои мысли вышивают по канве этого стихотворения.
«И будет ствол еще годами вступать с жарой и холодами все в ту же сделку, а затем…». А что «затем»? Куда денутся мои чувства, мои мысли? Кто-нибудь, живущий на земле после меня, уловит их? И почему это меня так волнует? Может быть, Пастернак именно об этом писал:
Были темны спальни. Мчались мысли.
И прислушивался сфинкс к Сахаре.
Или Мандельштам:
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
И как пройти страшную бездну примирения со смертью не в будущем, когда-то, а сейчас, у последней черты, не аскету-святому, а простому, частному, слабому человеку, пусть и искренне верующему в Бога, в Рай и Ад, много читавшему Святых Отцов и даже религиозных философов?
Ну вот, наконец-то и я добралась до «общего места», где задают «последние вопросы», на которые пока ни наука, ни мировые религии не дали успокаивающего ответа.
Похоже, дамочка вся в сомнениях и о «личном бессмертии» решила порассуждать, скажете вы…
Нет – не порассуждать. Осенью была репетиция. Старший сын Женя, пока атеист, пытаясь успокоить и поддержать меня, изложил свой цельный бескомпромиссный отважный взгляд на смерть, в котором я опознала мудрость незнакомого ему стихотворения.
Как много надо изменить в своей жизни, чтоб я за нее так не цеплялась…
***
Мимо крыльца, чеканя шаг, протопал на ночную вахту Мурзик и уселся около кухни в конце бетонной дорожки. Вытянулся в струнку – высматривает своих. Жалко его, потому что в ночные игры местные коты кастрированного Мурзика не приглашают. Суровые законы животного мира посильнее человеческого увещевания «насильно мил не будешь» и предупреждения «не лезь на рожон». Часто под утро Мурзик приходит порванным, а потом почти весь день спит. Но не он выбрал себе такую судьбу, поэтому к жалости всегда примешивается чувство вины. Вся его жизнь вызывает уважение – несмотря на потерю котовского достоинства, он отличный друг, сторож, боец и охотник.
Любят Мурзика только люди, за его добродушный нрав, за то, что он спасает кооператив от нашествия медведок, мышей, кротов и змей. Ловит он их в основном на чужих участках и сразу, еще живых, приносит на веранду и кладет мне в ноги, – чтоб я его похвалила. В эти моменты я ощущаю себя самым несчастным человеком на свете. Недавно от Петровых притащил шипящую гадюку. В голове промелькнуло: все, это конец. Забыв о больных ногах, я мгновенно запрыгнула на диван, как в кадрах запущенной в обратном направлении кинопленки, и стала дико кричать:
– Брысь! Брысь!
Ошарашенный непривычным криком Мурзик схватил свою жертву за голову и в испуге выбежал на улицу, а у меня на время пропал голос.
Когда есть зрители, наш с Мурзиком театр двух актеров вызывает бурный смех.
Трупики грызунов или то, что от них остается, муж с обреченным видом закапывает на образовавшемся благодаря коту-охотнику кладбище.
Да, Мурзик, пора спать. Но ты ведь прекрасно знаешь, что уснуть сразу ваше животное сообщество мне не даст. Сначала отлаются все до одной собаки, потом начнется активная фаза жизни жабьего семейства, поселившегося под домом. Чуть позже прямо под окном завоют мерзкими голосами коты. Тут уж ни снотворное, ни беруши не помогут. И кинуть в них нечем. Не так давно уже в полной тишине начинала «петь» самодельная кровать, – это невидимые жучки изнутри поедали с музыкальным писком свежую древесину.
В разгар лета, когда дача наполняется домочадцами, каждую ночь я слушаю то хрюканье мужа, закатившегося в устойчивое положение «лежа на спине», то пыточное скрежетание зубов внучки. Если внучка лежит со мной, она во сне кладет на меня свои длинные ноги, несмотря на то, что кровать рассчитана на троих. То вдруг под чьей-нибудь рукой завопит ее мягкая игрушка, лежащая между подушками: «Я люблю тебя, ты хороший». Смотрю под эти ночные звуки на освещенные луной раскинутые в неестественных положениях от жары тела, задрапированные простынями и напоминающие павших античных воинов с картин Давида, и счастливым голосом произношу: «Куда я попала»?
Одно время приноровилась засыпать под тихий звук приемничка, настроенного на волну «Ночного радиочтения». Но это не устроило мужа:
– Давай выключай! Бу-бу-бу, бу-бу-бу…
Мы с внучкой тут же засмеялись, а потом она при каждом новом человеке просила:
– Бабушка, расскажи, как дедушка ночью говорил: бу-бу-бу.
Завтра чуть свет соловьи разбудят, а потом к ним присоединится дятел, который повадился из прикрепленной к крыльцу антенны пищу себе извлекать. Долбит, как будто по твоей голове. Иногда, по глупости надеясь еще поспать, выпрыгиваю в ночной рубашке на крыльцо и стучу шваброй по антенне с устрашающим «кыш». Когда был жив «Федор», в шесть часов утра весь кооператив слушал гимн страны и лай выпущенной на свободу глупой Ветки. Проснешься – и лежишь неподвижно, как Ленин в Мавзолее, чтоб внучку скрип кровати не разбудил. Только Ленин не слышит, как птицы надрываются.
Грачи улетели
Отец уже давно жил один. Аллергия дочери на изнурительные с ним споры, старые неразрешенные обиды, обоюдная уверенность в своей правоте, нехристианское чувство морального превосходства у дочери и противостоящее ему желание отца постоянно доказывать состоятельность своей жизни, – все это на расстоянии не проявлялось и хоронилось до поры до времени в спасительном подсознании. Дочерние обязанности сводились к еженедельным телефонным разговорам, необременительной помощи и встречам по праздникам.
Но вот отец сломал руку и после больницы поселился у дочери. Чувство долга и естественная жалость побуждали дочь ухаживать за отцом, как за маленьким ребенком. Она стоически переносила ежедневные клизмы, связанные с ними запахи и отмывание квартиры. Под струей душа и во время переодевания отец стеснялся, и дочь искренне говорила что-то про любовь и заботу. «Неправильную» пищу с общего стола отец не ел, и дочь готовила привычную для него однообразную холостяцкую еду.
Через месяц начались сложности другого порядка.
***
– Локоть на месте – только ладошка разворачивается.
Инструктор лечебной физкультуры прижала локоть отца к столу и стала выворачивать наружу сопротивлявшуюся ладонь. Не допускающий возражения голос инструктора заглушил все попытки бывшего «главного конструктора проекта» проявить осведомленность в «скручивающих моментах». Дочь видела, что для отца находиться в состоянии обучаемого, безропотно подчиняться чужой воле – сущая пытка.
– Пап, делай правильно: я тебя снимаю на камеру.
Недавно освободившаяся от гипса синюшная, тоненькая от долгого бездействия, в больших черных кровоподтеках, на вид совершенно беспомощная рука вызвала в дочери жгучую жалость к старику-отцу. А ведь когда-то, во время ссор отца с женой и дочерьми, эта рука не раз наносила железный удар, чаще всего в голову. Почему это вспомнилось?
Дочь ежедневно водила отца в поликлинику на процедуры и лечебную гимнастику, вечерами повторяла с ним упражнения по видеозаписи. Если в общении с инструктором отцу приходилось соблюдать статус-кво пациента, то в домашней обстановке терпеть замечания толстой всезнающей дочери адепт системы Ниши не собирался. Задавленная обстоятельствами гордыня при первой возможности выскочила, как «товарищ» из табакерки, и столкнулась со столь же неукротимой гордыней дочери. Занятия превратились в пытку для обоих.
Проблемы, порожденные вынужденным малоподвижным образом жизни отца, так же становились поводом для стычек. И здесь советы дочери принимались в штыки.
– Скорее всего, она не кладет в салат нужного компонента или кладет его не в том количестве, – надо проверить, – думал отец.
– Представляешь, пришлось сегодня делать салат под его контролем. Придрался к морковке: нельзя, мол, покупать мытую, – жаловалась мужу дочь.
В интернете на медицинских сайтах она отыскала возможные причины запоров и частого мочеиспускания. Оказывается, запор могут вызвать редиска и чеснок, а любимый отцом клюквенный морс обладает мочегонным эффектом. Во избежание утомительных диспутов дочь молча клала отцу на стол распечатанные статьи специалистов. Неожиданно одна рекомендация сработала, и дочери пришлось ежедневно вечером взбивать в блендере кефир с черносливом и киви, а по утрам запаривать овсянку с отрубями и курагой.
Перед сном дочь целовала попавшего в беду вредного старика. Наконец-то трудный день закончился. Недовольная собой, она долго не засыпала. И молитва не шла.
В кабинете лечебной физкультуры ей пришла на ум поразившая много лет назад теория о микросмыслах жизни всемирно известного психолога Виктора Франкла, в основу которой легли его наблюдения за людьми в фашистском концлагере.
Даже на грани физического выживания человека спасает достойное поведение. Именно в осмысленном проживании каждого конкретного этапа своей жизни он и обретает смысл жизни как фундаментальное условие бытия человека.
Где взять силы, за что зацепиться, чтобы достойно прожить заключительную стадию сложных взаимоотношений с отцом?
Каждый вечер она анализировала прошедший день и настраивала себя на завтрашний. Мысли крутились, как в калейдоскопе. Какая же я веруюшая… Поддаюсь на провокации… Надо всего лишь потерпеть еще немного… Вера без дел мертва… Творить дела любви, тогда любовь и начнет появляться… Вот. Нащупала. Для любви к отцу место в сердце не расчищено. Там сплошное «Я» и люди, любить которых не составляет труда. Толку от того, что смотрю пронзительную передачу «Разыскиваются добрые люди»! Интеллигентные девочки после работы отправляются не на свидания, а ко всеми заброшенным озлобленным дурно пахнущим старикам и не ждут от них благодарности. Сколько же в них сострадания! А я?
***
На очередное семейное сборище отец приходил со старым рваным грязным портфелем, который когда-то принадлежал дочери в ее студенческие времена. Без портфеля отец не выходил из дома, независимо от того, куда направлялся: в магазин, поликлинику, к дочерям, на сходку кузбасского землячества, на почту или в парикмахерскую. Как-то дочь купила ему современную легкую сумку со множеством отделений и карманов, но портфель победил, а сумка была благополучно запохерена. В портфеле лежали один-два фотоальбома, пожелтевшие письма и очки для чтения. Они терпеливо ждали своего часа, когда хозяин после того, как дочери, внуки и правнуки наговорятся за едой, с волнением высвободит их из заточенья.
После смерти жены бурный круговорот жизни иссяк. Общение с соседями и продавцами, переписка с двоюродным братом, телефонные поздравления по списку, газеты и бесконечный телевизор не могли заменить полноты насыщенного событиями прошлого. Самое дорогое осталось в воспоминаниях, они со временем превратились в красивые сюжеты с главным героем на белом коне и разбухли так, что ими необходимо было делиться с любым, кто будет слушать. Для этого отец стал приглашать сначала паренька-таджика, который делал уборку за небольшую плату и помывку в ванной, а потом, когда его выслали из страны, – таджика-парикмахера с женой. Те же, у кого эти воспоминания должны были вызывать фамильный интерес, знали их наизусть и не могли слушать эканий-бэканий живущего и говорящего в неудобоваримом для клипового сознания ритме старика.
Как только портфель открывался, гости под любым предлогом начинали выходить из комнаты, и отец оставался наедине с младшей дочерью. Дочь слушала приукрашенные, с заново сочиненными подробностями, истории, в правдоподобность которых отец уже сам верил, вспоминала бабушку, мать отца, такую же придумщицу. В детстве дочь тоже рассказывала подругам всякие небылицы, а ее сестра до сих пор плетет кружева, в которых не отличить правду от вымысла. Ничего не попишешь – наследственность.
Дочь снисходительно воспринимала безобидные фантазии домашнего Мюнхгаузена и даже оправдывала их тем, что так уж хитро устроена память: она не желает хранить того, что теребит совесть. Но вот однажды отец в очередной раз рассказал историю его побега на фронт, в которой двух друзей-парнишек сняли с поезда и вернули домой. Для убедительности он вынул из портфеля алюминиевую кружку, якобы оставшуюся с тех времен, на самом деле принадлежавшую зятю-туристу. Впервые дочь подсчитала в уме возраст отца в годы войны. Восемнадцать лет ему исполнилось в сентябре сорок четвертого: вполне мог еще воевать. Отцу пришлось объяснять, что студенты горного техникума освобождались от армии: стране нужны были специалисты по добыче угля, необходимого фронту. А вот в фильме «Летят журавли» главный герой отказался от брони. В голове опять прокрутилось – зачем надо было комсоргу бросать школу, директором которой работал выдающийся педагог, будущий Президент Академии педагогических наук, и ехать в другой город, чтобы поступить в техникум? Наверное, дед, большой начальник в угольной промышленности, таким образом «отмазал» единственного сына от армии. Безжалостное сердце дочери подкинуло в топку необоснованных умозаключений еще одно полено: вот почему умерла невинная талантливая способная младшая сестра отца в сорок восьмом году, – за все надо платить. Скоро дочь в запале ссоры бросит эти страшные слова-разоблачения отцу во время вынужденного их совместного проживания. И он замахнется на нее больной рукой, но сдержится, устыдится зятя.

