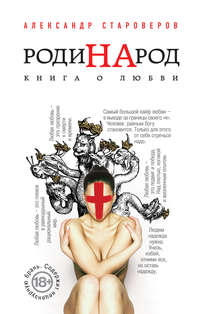Полная версия
Баблия. Книга о бабле и Боге
Федя и Сема вошли в ресторан одновременно. При всей разности обстоятельств жизни и судьбы выглядели они как братья-близнецы. Оба без галстуков, в джинсах и пиджаках по случаю пятницы. Оба с лакированным загаром, то ли еще морским, то ли уже горным. Уверенные, холеные мужики, кое-чего добившиеся в этой жизни.
Это люди только думают, что они разные. Может, рождаются они и разными, а потом жизнь обтачивает, как вода камешки, и раскладывает их по полочкам. И стоят они на этих полочках ровнехонько, и на другую полочку не перескочить. Потому что камни не скачут.
– Рок-н-ролл, – вскинул два пальца вверх Сема.
– Hi, френдище, – поздоровался Федя.
– Шалом, уроды, – вежливо кивнул Алик.
Приветствия происходили родом из юности и символизировали суть каждого. У Семы лихое криминальное прошлое и погоняло Сема Рок-н-Ролл, когда-то гремевшее на все Нечерноземье. У Феди изысканный жаргон фарцы конца восьмидесятых. Алик в юности был панком, слушал «Аукцыон» и зачитывался Хармсом. К пятому десятку у всех троих увлечения юности остались позади, и сердце успокоилось на выдержанном односолодовом виски. Его и заказали. Выпили по первой, как полагается, за встречу. Закурили. Помолчали.
– Что-то ты неважно выглядишь, – заметил Федя.
– Правда, хреново, – поддержал его Сема. – Мужчина должен быть пьян, весел и беспечен, особенно в наши годы. А ты трезв, печален и загружен. Ты чего, у нас же молодость, третья по счету уже и еще двадцать молодостей впереди. Рок-н-ролл, твою мать.
Алик рассказал им все: и про сделку с банком, и про видения, и даже про Наташу-рекламщицу.
– Ну офигенно! – обрадовался Сема. – Бабки на горизонте, телка на вертеле, жизнь бьет ключом.
– А как же видения? – спросил Алик.
– А видения – это побочные эффекты, – успокоил Федя. – Все имеет свои побочные эффекты. Вот выпили, к примеру, мы, хорошо нам – весело, спокойно. А завтра что будет? Сами знаете что. Голова трещит, жена ворчит, во рту насрали. Побочные эффекты.
– Ты за всех не говори. У меня похмелья не бывает. У меня рок-н-ролл вечный. Врубишь «Рамштайн», и никакого похмелья, жить хочется. Убить кого-нибудь. Изнасиловать. Уммм, сказка, – сказал Сема.
– Хорошо, не похмелье, – согласился Федя. – Допустим, телку ты снял в клубе. Хорошую такую, в платье блестящем, с сиськами, и зажигаешь всю ночь с ней. А потом в гостиницу везешь и там тоже все получается славно, несмотря на литр выпитого. А утром просыпаешься.
– Похмелья у меня нет, я предупреждал, – повторил Сема.
– Нет, нет, у тебя похмелья, понял я… Так вот, просыпаешься, а рядом с тобой такое идолище поганое лежит, что мать моя женщина! А потом еще и трипак…
– Это да, это бывает, – кивнул Сема.
– А я что говорил. Побочные эффекты.
– Точно, Федь, прав ты. Вот я помню, когда заводы у чуреков отбивали, весело так было, драйвово. Из чуреков чебуреки сделали. Все так удачно прошло. И чувство у меня такое появилось, как у Чингисхана на лошади Пржевальского в степи. Всех порвать мог. А потом налоговая, менты, прокуратура, казни египетские. И три года в Лондоне откисать пришлось. Побочные эффекты. Вот как это называлось? Надо кентам рассказать, пусть поржут, – сказал Сема.
– Да что вы заладили об эффектах?.. Что я, эффект от реального геморроя отличить не могу? Я этих молящихся не в 3D вижу. А как вас сейчас. Живые они для меня. Я вам серьезно говорю. Проблема это, а вы стебаетесь! – воскликнул Алик.
– Эл, дружище, что я тебе лекцию читать буду? – мягко улыбнулся Федя. – Перенапрягся ты. Куш впереди замаячил приличный. А ты же у нас романтик: Багамы, закаты, соскочить хочешь из нашего вертепа. Накрутил ты себя, расслабься. Съезди в Париж на выходные или в Амстердам травки покурить. Возьми телку с собой и зажги там как следует. Отпустит тут же.
– Тем более, – поддержал Федю Семен, – соскочить навсегда – не вариант. Нет, на уик-энд с телкой в Париж поезжай, конечно. Милое дело. А насовсем – не получится.
– Это почему же? – спросил Алик.
– Уж поверь мне, я там три года мучился. От тоски чуть не сдох, – ответил Сема.
– А я потоскую, что-то мне весело слишком стало в вертепе нашем зажигательном, – пожал плечами Алик.
– А там точно такой же вертеп, только представление длится подольше. И достало это шоу уже всех: и актеров, и зрителей, и режиссера. И скучно им там всем смертельно. А пукают в нос там точно так же, только через тряпочку и sorry при этом говорят. И улыбаются оптимистично. Но и это не главное. Зачахнешь ты там, потому что все мы здесь наркоманы адреналиновые. А там любая дурь есть – удолбись, пожалуйста, а вот с адреналином напряженка. Так что расслабься, отпусти ситуацию. Все равно жизнь кардинально изменить не получится. Сколько бы бабла ни украл.
– Гад ты, Сема. Последней мечты лишаешь.
В словах друзей имелся смысл. Алик бы и сам говорил нечто подобное, если бы услышал свою историю со стороны. Но это со стороны, а он внутри этой истории, в самой ее середине. И поэтому умные слова не канали.
– Давайте выпьем, – после паузы предложил он. – Чтобы все понятно было, как в школе, на политинформации перед классным часом.
– За понимание! – поднял стакан Федя.
– За понятия! – присоединился Семен.
Выпили каждый за свое, подумали каждый о своем и погрустнели. Алик в очередной раз понял, что человек рождается один, живет один и помирает один. И никто никому помочь не может. Ничем. В принципе. Не желая мириться с такими мыслями, а наоборот, наперекор им, он спросил:
– Хорошо, вы все правы. Жизнь не изменить, деньги не помогут. Побочные эффекты. Нужно расслабиться. Ладно, все так, а с Наташей как быть?
– А в чем проблема? – удивился Сема.
– Как в чем? Я не люблю ее, я ударить ее хотел, когда она… а я с женой разговаривал в это время. А потом понравилось… грязненько так понравилось, по-свинячьи, зато сильно.
– Подумаешь, проблема, девка дала с первого раза, да еще зажигательно как. Вот мне вторая жена год не давала, я чуть стены грызть не стал. Я, может, и женился на ней поэтому. Из спортивного интереса практически. Развелись потом быстро. Вот это проблема. А это… – Сема презрительно махнул рукой.
– Не скажи, – возразил Федя. – Была у меня на работе одна такая зажигалка. Пиарщица. Похоже все. Сначала весело. Где мы только с ней не упражнялись! В кабинете само собой, в туалетах при кабаках тоже. Даже на колесе обозрения в парке культуры. До групповухи дело доходило в разных комбинациях. Одна беда: не любил я ее, потому как точно понимал: сука она похотливая и ничего больше. Вы же знаете, я человек семейный, жену люблю, с остальными только сношаюсь. Любить-то я жену люблю, а трахать ее не мог тогда. Только зажигалку. Пресная жена показалась после нее. Засосало меня.
– Меня засосало красивое хлебало, и жизнь моя жестокая игра, – начал глумиться Сема.
– И чего дальше? – прервал его Алик.
– Да ничего. Месяц с женой не трахаемся, полтора. Напряглась она, по телефону лазить начала. Эсэмэски прочла. А там такие эсэмэски – маркиз Де Сад отдыхает. Короче, решили пожить отдельно некоторое время. Снял я квартиру через две улицы. А детям сказали, в командировку папа уехал надолго, бизнес налаживать в филиале, – сказал Федя.
– А дальше? – спросил Алик.
– А дальше все плохо. Живу один. Детей вижу раз в две недели по выходным. Скучаю, страдаю. На зажигалку смотреть противно. Жена нос воротит. Комплекс вины жрет постоянно. И главное, обвинять некого, только себя и пипиську свою неразумную. Полгода так жил. Жене ноги лизать хотел, лишь бы назад пустила. Еле помирились.
– А с женой-то смог после всего этого? Ну, в интимном плане… – поинтересовался Сема.
– Да я после этих шести месяцев в интимном плане и с белым медведем бы смог. Наказание я себе придумал такое тогда. Пока не помирюсь – ни одной бабы. Только дрочил иногда…
После такого финала истории не заржать было невозможно. И заржали.
– С белым… медведем… с белым… – ухохатывался Сема.
– Дрочил… редко… – почти плакал Алик.
Вместе получилось: с белым медведем дрочил иногда. Компания пидерообразных метросексуалов за соседним столиком оживилась, стала перешептываться и тыкать в них пальцами. Сема заметил это, повернулся и бросил на мальчиков взгляд из арсенала боевой криминальной юности. В девяностых после таких взглядов обычно стреляли. А сейчас ничего не произошло. Мальчики все поняли и с утроенным усердием сосредоточенно и молча стали ковыряться в крабовых клешнях.
– Спасибо, Федя, повеселил, спасибо тебе, дорогой, – поблагодарил товарища Сема.
– Да ну вас, я вам тут душу, можно сказать, открываю, опытом делюсь, а вы…
– Правда, спасибо, – успокоил Федю Алик. – Я все понял. Главное не дрочить с белыми медведями. Остальное переживаемо.
Федя, не успев обидеться, рассмеялся. На компанию накатила вторая волна веселья. Метросексуалы за соседним столиком, наученные горьким опытом, даже не шелохнулись.
– Я вот вам что скажу, – подвел итог, отсмеявшись, Сема. – Бабы – существа такие летучие…
– Какие? Сучьи? – скаламбурил Федя.
– И это тоже, но и летучие, как газ или вода, чтобы понятнее было. А газ и вода, они какие?
– Какие? – попытался вникнуть Алик.
– Физику помните за шестой класс? Вода принимает форму сосуда, в котором находится. А если сосуда нет, то вода растекается во все стороны, а газ вообще улетучивается и стремится занять все доступное пространство. Так же и с бабами. Не поставишь рамки, и заполнят они собой всю твою жизнь, и захватят тебя, и беду принесут. Поэтому строгий контроль и дисциплина. Сможешь поставить рамки для Наташи, так и развлекайся на здоровье, хоть по-свинячьи, хоть по-крокодильи. А не сможешь – как у Феди получится.
– Прав ты, Сема, как всегда, – согласился погрустневший Алик. – Но как же тогда любовь? Какие сосуды для любви, какие рамки?
– Ну, во-первых, Наташу ты не любишь, сам сказал.
– А во-вторых?
– А во-вторых, любовь – это когда бьются все сосуды, рамки и объемы. И голый ты, и заполняет девка всю твою жизнь, а если взаимно, то и ты ее. Редко, но бывает. Получается, тогда у вас один общий объем на двоих. Вырастает он в тысячу раз. Но все равно есть. Потому что люди существа конечные. Беспределен только Бог. Это как Большой взрыв. Сначала горячо очень, Вселенная расширяется, и кажется, всегда так будет… А потом остывает и сжиматься начинает. Значит, пределов объема достигла. Хорошо, если сдохнешь до этого. Тогда любовь у тебя, считай, бессмертная.
Алик задумался. То, что говорил Сема, походило на правду. На печальную правду жизни. С годами он заметил, что правда бывает только печальной. Это ложь всегда радостна и оптимистична, обещает заманчивые перспективы, зовет за собой.
– Хорош, парни, – решительно прервал раздумья Федя. – Хватит, куда-то вас не туда понесло. Знаю, чем это все закончится.
– Чем? – в один голос спросили Сема с Аликом.
– У меня последний раз путь был такой. Перечисляю со всеми промежуточными остановками: философия, грусть, текила, трава, потом не помню, снова текила, коктейль «Оргазм в прериях», девка какая-то чужая в туалете, драка, опять текила, потом не помню, очнулся через два дня дома и заблеванная комната дочери.
– А при чем здесь комната? – поинтересовался Сема.
– С туалетом перепутал.
– А, помню, – повеселел Алик. – Жена твоя рассказывала. «Вхожу, говорит, в комнату Аленки, а у нее все учебники заблеваны и Федя стоит вдребадан». Я ему: «Что ж ты, тварь, делаешь?», а он мне: «А ты, сука, кто такая?»
– А вот этого уже не помню. Хотя возможно. Поэтому, парни, философию на этом заканчиваем и переходим к более нейтральным темам. О бабах уже поговорили, футбол пропускаем по случаю наступившей зимы. Предлагаю поговорить о работе и бабках. Ну у Алика все о’кей, на Багамы нас скоро позовет, я надеюсь. А вот у тебя, Сема, как дела? – спросил Федя.
– Все офигенно, по Салтыкову-Щедрину.
– Это как? – уточнил Федя.
– Воруем… а у тебя как?
– Да так же в общем…
– Ну чего, поговорили о работе? Много новостей узнали? У всех одно и то же. Только скажите мне, почему мы, три здоровых неглупых мужика, занимаемся тупым, ну хорошо, даже не тупым, высокоинтеллектуальным пускай, но все равно воровством? Мы для этого родились на белый свет? Я вот, например, писателем в детстве хотел стать, – сказал Алик.
– А я разведчиком, как Штирлиц, – мечтательно произнес Федя.
– А я на Марс хотел полететь.
Все опять погрустнели. Контраст между детскими мечтами и действительностью вышел какой-то пошлый. «И это еще повезло, – подумал Алик, – а мог бы и офисным рабом стать, пресмыкаться за ипотеку в Балашихе».
Не сговариваясь, все приложились к стаканам и уже после того как выпили, смутившись, чокнулись. Молча. Без тоста. Лицо Семы перекосилось. Он грохнул стакан об стол и закричал.
– Вы меня извините, конечно, а можете и не извинять, но достали эти мудовые рыдания. Вот вы, мальчики московские, мажорные, спецшколы, книжки, родители на «Жигулях» любящие. А в моем Мухосранске за чекушку черепа кроили. Детей, как козликов, на чужие огороды пастись отправляли. А любовь… да там и слова-то такого не знали. Для меня воровство – это огромный шаг в эволюции, как выход рыб на сушу. Не знаете вы народа нашего. Темный он, завистливый и тупой. С ним если по-честному – разнесет он все на хер. А потом нажрется водяры и заснет с чувством выполненного долга. А наутро проснется и с похмелюги будет тихий такой, смирный, виноватый, так что драть его можно будет во все щели еще лет пятьдесят, пока очередные наивные дурачки вроде вас опять по-честному не захотят. Поэтому воровал, ворую и буду воровать, и другие пускай воруют; не убивают – уже спасибо. А народу – крошечки, постепенно, чтобы заворот кишок не случился. Сначала кредиты на телик, потом ипотеку, чтобы рыпнуться в сторону не мог, а потом и деньжат можно подкинуть немного, лет через двадцать. А потом и свободы, чуток.
– Вы прослушали четвертый сон Веры Павловны, ой, простите, пятый сон Владимира Владимировича из цикла «Сны о чем-то большем», – попытался обратить все в шутку Федя.
Почему-то смешно не было. Даже никто не улыбнулся.
– Сем, – тихо спросил Алик, – а на Марс ты полетел?
– Какой, на хрен, Марс, я завтра в Куршавель лечу с певичкой, с этой… как ее… сисястая такая…
– Но ведь Куршавель не Марс, а певичка – не инопланетянка.
Сема помрачнел, налил полный стакан виски, выпил его в два глотка, оплыл, сдулся и прошептал почти:
– Не инопланетянка… куда ей…
– Сем, вот ты мне тут сказочку страшную рассказал, про народ наш; может, и правда это. А давай я тебе свою расскажу.
– Давай.
– В одной далекой холодной стране жили-были люди. Нормальные такие, тихие, спокойные, даже добрые люди. Охотились, рыбу ловили, выращивали там что-то – в общем, жили не тужили. Но на их беду, место, где они жили, было очень удобно расположено в плане логистики. Буквально на перекрестке всех путей. И шли через это место караваны богатые с товаром всяким. Сначала добрые люди даже обрадовались, кормить начали караванщиков, услуги всякие оказывать, разбогатели слегка и зажили еще лучше. А потом с севера пришли злые бандосы, отморозки конченые, поделили дорогу на участки и сказали: «Теперь это наша поляна, и за проезд надо платить». Ну, ты помнишь, у нас так в девяностые Минку от Бреста до Москвы поделили. У бандосов старший был Рюрик Балтийский, и бригадиров с десяток, и пехота. Все как полагается. Сначала стригли караванщиков, а потом, как водится, и на добрых людей переключились. Люди сначала повозмущались, но они же добрые. А бандосы им быстро объяснили, что возмущаться – не по понятиям. Зато по понятиям порядку больше. Согласились люди. И стали бригадиры называть себя князьями, а старший – князем всех князей, великим князем то есть. Понты отросли, сам понимаешь. Так и образовалось государство русское. Людей стали стричь нещадно, тяжело им стало. А где тогда было легко? Средние века все-таки, лихие Средние века. И все бы ничего, но потом с юга черные поперли, ну звери прям, похлеще северных оказались. Ты ведь понимаешь, Сем, сам с чуреками воевал. Только эти монголами назывались. Ну и разборки, конечно. По результатам огребли северные от южных по полной программе. И тут самое страшное случилось. Ты же знаешь чуреков, ленивые они до ужаса, работать не хотят, им бы глотки только резать. Сказали они бандосам: ладно, дыхайте пока, стригите кого можете, но под нами ходить будете и доляну львиную засылать регулярно. А чего бандосам было делать? Так и повелось. Только вот людей добрых в четыре раза больше стричь стали. Ничего не попишешь, нагрузка-то двойная. И стали люди добрые сначала не такими добрыми, а потом и вовсе злыми. А кто бы не стал? Любой скурвился бы от житухи такой. Зато сильными и закаленными стали люди. Выхода ведь не осталось. Тут либо сильный и терпеливый, либо копыта сразу отбрасывай. Некоторые все же бежать пытались на восток, в болота да леса дремучие. Некоторым удавалось, но все равно потом догоняли, а они дальше бежали, почти до самой Японии добежали, но в море уперлись. Триста лет чуреки мазу держали, а потом люди стали настолько злые, что в злости самих чуреков обогнали. И наваляли им. Не мне тебе, Сем, рассказывать, это ты специалист по укрощению черных. И, казалось, тут бы и зажить, но привыкли за три века северные к порядкам южным и схему «подстриг – отстегнул» выучили четко. А бывшие добрые люди стали такими терпилами, что не четыре, но три шкуры с них драть можно было спокойно. И поэтому вот тебе, боярин, воеводство на кормление, но чтобы все по-тихому, и доляну не забудь занести. Прям как сейчас губеры, один в один, согласись, Сем. Короче, не изменилось ничего с тех пор. Нет, пробовали, конечно, и свободу людишкам давать. Постепенно пытались, рабство позже всех в мире отменили, реформы всякие Столыпинские. Пробовали и сразу, одним махом, как в семнадцатом или девяносто первом. Только не получалось ничего. Говнище сразу переть из народа начинало струей тугой. Но оно и понятно, тысячу лет дерьмо копилось. Прав ты, Сема, кнут наш народ понимает лучше, чем пряник. Взнуздаешь его покрепче, он тебе и книжки напишет, и поле вспашет, и споет, и спляшет, и человека в космос запустит, и войну выиграет. Одна беда: раз в сто лет говнище из народа переть начинает. Но тут ничего не поделаешь, только утираться. Работа у элит такая. И еще проблема: людей, которые летать могут, все меньше с каждым веком становится, а которые могут и хотят, тех вообще почти не осталось. Вот и мы с тобой, Сема, не полетели.
Алик замолчал, его стакан был пуст, на донышке литровой бутылки оставалось грамм сто жидкости. Он взял бутылку и прямо из горла прикончил остатки.
– Не полетели, не по-ле-те-ли, – обхватив голову руками, по слогам сказал Сема.
– А мне, лета-а-ать, а мне лета-а-а-ть, а мне лета-а-а-а-а-ть охота, – гнусавя, пьяненьким голосом запел Федя, посмотрел на Алика и, нарочито усугубив свою якобы нетрезвость, спросил: – Ну ты же летишь, на Багамы, кажется? Ребята, кто-то из нас сегодня летит на Багамы, с баблом… Только вот кто?
– Не полетели, не по-ле-те-ли, – не обращая внимания на Федино шутовство, причитал Сема.
– Спокойно. Будем рассуждать логически. Я лечу? Я не лечу. Нет, хочу, конечно, но не лечу. Бабла у меня столько нет.
– Не по-ле-те-ли.
– А вот у Семы есть. Он, конечно, может.
– Не по-ле-те-ли.
– Но не хочет, сам видишь, Алик, не хочет Сема на Багамы. Так что поздравляю, летишь ты. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море бабла-а-а-а, – интимным шепотом запел Федя. – Давайте вместе: главное, ребята, денег напереть, сесть в огромный «Боинг», взять и улететь…
– Не ерничай. Алик прав. И не полетели мы, и не полетим, и выхода нет.
– Предупреждал я вас, что философия до добра не доведет. А выход всегда есть. Вон, смотри, выход из ресторана. А вон пожарный выход. А на самый пожарный паспорта у всех в кармане вторые. Это тоже выход. Да гори она синим пламенем, страна эта огромная. Хрен с ней. Не переделать нам ее. Полетели, не полетели – какая разница, – сказал Федя.
– А как же мы, как же люди?
– Вот о себе подумай, о детях, о родителях. А люди? Ну, знаешь, в Африке тоже негры от голода умирают. И что? Мы здесь хоть сытые и пьяные в данный момент.
«Я же не рассказывал им о неграх. Точно не говорил, – подумал Алик. – Что же это делается? Откуда он знает? Кто-то смеется надо мной? Страшноватенько. Надо прекращать». Он потряс головой, фыркнул, как будто выныривая из ледяной проруби, и преувеличенно бодро сказал:
– Так, господа, приношу свои глубочайшие извинения за то, что засрал вам мозг на ровном месте. Обязуюсь в следующую встречу молчать как рыба и послушно впитывать любое дерьмо из ваших уст. А сейчас в лучших традициях народных сказок предлагаю три варианта продолжения банкета. Налево пойдешь – к шалавам попадешь, направо пойдешь – в клуб попадешь, прямо пойдешь – в караоке придешь. Деньги теряются во всех трех случаях. Голова, надеюсь, останется на месте.
– Нет, подожди, подожди, Алик. Выход-то где? Не шути сейчас. Рванет же все…
– Я тебя умоляю, Сем, как друга прошу. Давай не сегодня…
– Нет, ну ты-то знаешь? Начал, так договаривай. А то после твоей сказки у меня виски в горло не льется, на баб не встает и песни не поются.
– Хорошо, я скажу. Только давай забьемся. Я говорю, и тема на сегодня закрыта.
– Забились, – кивнул Сема.
– Америки я, конечно, не открою, но думаю так: пора уже с народа не три шкуры драть, а хотя бы две. Я не против воровства, сам такой. Пускай стригут – караванщиков, трубу, бюджет, что угодно. Россия богатая, выдержит, а без крови прекратить это не удастся. Но людей в покое оставить надо. Пускай себе копошатся, как та лягушка. Лапками из сметаны масло взбивают. Вспомни, Сем, когда бизнес лучше всего развивался? После девяносто восьмого, когда государство обосралось по полной программе, не до людей ему стало. А если поглубже копнуть, то и НЭП вспомнить можно. После Гражданской войны за три года страну подняли. Народ у нас сильный и ушлый, выдюжит. А если еще и в тех, кто летать пытается, из рогаток перестанут пулять… Вообще сказка. Увидят людишки птичек невиданных, глядишь и сами начнут головы в небеса почаще задирать, а там и полетят, может. Ну не они, так детки их. Главное – реально все, как ни странно. Верхние, при трубе, с баблом да Рублевкой остаются. А нижние сами все сделают. Средних только, типа мент – пожарник – домуправ, приструнить надо будет. Так, кстати, во всем мире устроено. Даже в Штатах.
– А чего же у нас не делают?
– Да боятся. Не верят в тонкие методы настройки. Ссут, что людишки взлетевшие срать на них будут, аки птички божьи. И будут, потому что тупые они, все эти комсомольцы да гэбэшники бывшие. Вот они – самое большое быдло и есть. А были бы поумнее… И вообще мы же забились, Сем. Сворачиваем тему. Или пацан слово не держит?
– Пацан сказал – пацан сделал, молчу.
– Базара нет, командир. Короче, добры молодцы, какой дорогой вечер продолжим? – спросил Алик у друзей.
Федя поморщился и, изображая бурный мыслительный процесс, задумчиво произнес:
– Ну, шлюхи – пошло, караоке – громко, может в «GQ» или еще куда-нибудь?
– А чего, в GQ шлюх нет? Давайте уж сразу к шалавам, там и попоем, – возразил Сема.
– Предлагаю компромисс, – помирил их Алик. – Едем в караоке. Там и шлюхи, и песни, а громкость звука снижается с каждыми выпитыми ста граммами. К утру, Федь, гарантирую – никого слышать не будешь. Зато тебя слышать будут все.
– Эх, опять Аленке учебники новые покупать.
– Почему так?
– Заблюю, – грустно вздохнул Федя и засмеялся.
В караоке приехали к одиннадцати. По пути всех развезло. Нетвердой походкой вошли в бордельного вида зал и плюхнулись на красные плюшевые диваны. Федя сразу прилепился к компании симпатичных девок. То ли первокурсниц, то ли многостаночниц, поди их разбери сейчас. Сема, пробормотав «ща все будет», активно эсэмэсился со знакомыми женского пола. Алик затянул древнюю балладу Принца Purple Rain. Вечер развивался как обычно. К часу ночи народ забил зал до отказа. Приехал отряд накачанных Семкиных девок.
«Морские котики, блядь, – зло подумал Алик, – спецназ по отсосам и боевому массажу простаты».
К отряду присоединилось свежее пополнение Фединых подружек. Подружки стали петь «ВИА Гра», эротично покачивая бедрами. Испытанные бойцы из Семиной армии трясли сиськами и отвечали им бронебойной Успенской:
– «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь…»
«Уезжай, уезжай уже, – с ненавистью думал Алик, – достала».
Девок хотелось прикончить с особой жестокостью. Алик не любил быдло-песни, быдло-девок, а в быдло-шлюх готов был стрелять из гранатомета. Чтобы успокоиться, приходилось много пить. Мысли начали путаться, а потом и вовсе исчезли. К трем часам ночи Алик достиг того состояния, ради которого он и ходил в подобные заведения. Не мешало уже ничего: ни девки, ни громкая музыка, ни бронебойная Успенская. Мир стал призрачным и цветным, и Алик был весь в этих смазанных красках, бликах от хрустальных шаров и сливающихся звуках. А внутри его не было – только пустота. И когда одинокий, хорошо поющий мужик за соседним столиком запел «Конфисса» Челентано, у него потекли слезы. Слезы вопреки законам физики текли не из глаз, а внутрь – в глаза, и дальше, в одурманенный алкоголем мозг, в усталое сердце, до самых кончиков пальцев на ногах. Отпускало его медленно, но неотвратимо. А потом совсем отпустило. И в этот момент свет в зале погас. Посреди сцены вспыхнула светящаяся точка и сразу превратилась в небольшой шар.