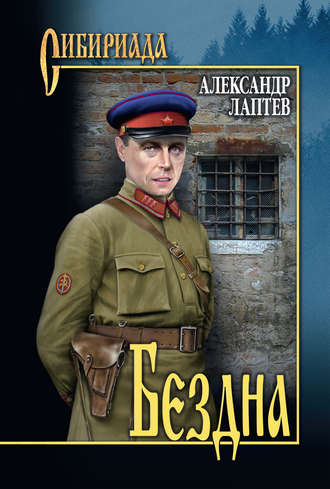
Полная версия
Бездна
Левантовский взял его за руку.
– Я вам сейчас скажу кое-что… Этого почти никто не знает. Но в этом кроется разгадка всех этих процессов. Хотите знать?
Пётр Поликарпович медленно кивнул.
– Да. Я слушаю.
Левантовский с усилием сглотнул слюну. Глаза его лихорадочно блестели в полутьме.
– Хорошо. Больше вам этого никто не скажет.
Он замолчал. Прикрыл глаза и судорожно втягивал в себя воздух.
– Всё очень просто, – вдруг заговорил он. – Сталин – типичный параноик. Бехтерев ещё в двадцать седьмом поставил ему диагноз. В декабре двадцать седьмого в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд психиатров и невропатологов. Я был на этом съезде, видел самого Бехтерева. Это был поразительный человек – настоящая глыба! Колоссальный ум! Так вот… Бехтерева неожиданно пригласили к Сталину для консультации. У того была бессонница, депрессия, грубые выходки всё чаще случались. Думали, что это от переутомления. Надеялись, видно, что Бехтерев выпишет ему какие-нибудь капли и всё это пройдёт. Но надо было знать Владимира Михайловича! Это был психиатр старой классической школы. Он был гениальный диагност и мог поставить диагноз с одного взгляда на больного. Авторитет его был непререкаем. И вот вместо пилюль и капель Бехтерев выносит диагноз Сталину: паранойя! И ещё прибавляет в разговоре со своим помощником, что во главе государства оказался опасный человек. Об этом разговоре сразу же стало известно Сталину. В тот же день вечером Бехтерев внезапно умирает в гостинице от острого пищевого отравления. А был он отменно здоров и ещё не очень стар, всего семьдесят лет ему было. Все так и поняли: Сталин отомстил ему за унизительный диагноз, а заодно пресёк слухи о своей болезни. Но главное не в этом. Среди обычных людей чрезвычайно много скрытых параноиков, об этом вам скажет любой психиатр. Но у Сталина просматриваются откровенно садистские наклонности! Вот что страшно! И вот представьте, что у лидера государства развивается мания преследования, везде ему мерещатся враги и заговоры, при этом он обладает неограниченной властью и получает удовольствие от чужих страданий. Вы что думаете, его жена по идейным соображениям пустила себе пулю в лоб? Не-ет, просто так такие вещи не происходят. Это Сталин довёл её до самоубийства. И помяните моё слово: дальше всё будет только хуже. Пока Сталин жив – не будет нам всем жизни. Нам и нашим детям! Мы все умрём – это вопрос уже решённый. Но сколько ещё людей погибнет – об этом подумать страшно! Боже мой, что же нам делать? За что нам всё это? – И он закрыл лицо руками.
Пётр Поликарпович сидел не шевелясь. Услышанное не укладывалось в сознании. Выходило так, что всё, за что он боролся, чему посвятил свою жизнь и отдал лучшие годы, – оказалось ложью, мерзостью, чудовищным обманом! Если всё услышанное верно хотя бы наполовину, тогда впору было сойти с ума. Или покончить с собой, как это сделал Орджоникидзе. Рядом лежали в забытьи люди, кто-то стонал во сне, кто-то хрипел и метался; а один лежал ничком, как неживой. В камере было темно и душно, несло вонью от параши, невозможно было глубоко вдохнуть, отчего кружилась голова, а по телу расходилась слабость. Пётр Поликарпович уже жалел, что согласился слушать Левантовского. Лучше бы он ничего этого не знал. Пусть уж лучше будут допросы и обвинения, это всё равно легче, чем знать, что ты боролся за неправое дело и теперь обречён и вся страна тоже обречена – на мучения, на никому не нужные жертвы. Можно пойти на смерть ради высокого идеала, ради счастья будущих поколений, ради своих детей, наконец. Но вдруг узнать, что ты собственными руками, всей своей жизнью предуготовлял всеобщую катастрофу, за которую тебя будут проклинать потомки, – это было выше сил. Пётр Поликарпович обхватил голову руками и глухо застонал. Подобной душевной боли он ещё не испытывал. Избавиться от неё было нельзя, утишить нечем. Можно было лишь сжаться, собрать в кулак всю свою волю и удержать рассудок, не позволить себе впасть в безумие. Это был единственный способ противостоять страшной действительности.
В эту ночь Пётр Поликарпович больше так и не уснул.
А утром Левантовского опять вызвали на допрос. Уходя, Левантовский приостановился, посмотрел на Пеплова.
– Помните о том, что я вам сказал, – произнёс он и вышел.
Больше Пётр Поликарпович никогда его не видел.
Юрий Михайлович Левантовский, врач-невропатолог 1-й городской детской больницы, был расстрелян в декабре тридцать седьмого года. Сына его также расстреляли, годом позже – но уже в Магадане. Он был прихвачен «делом Берзина», признан участником «колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации» (как было сказано в приговоре). По этому выдуманному делу были расстреляны тысячи невинных людей. Но всё это было впереди, и всё это было очень далеко – за тридевять земель, куда Пётр Поликарпович никак не чаял попасть.
Жена его, не получив ответа на свои обращения – ни из Москвы, ни от местных властей – и не имея никаких вестей о своём муже, лишившись поддержки со стороны писательской организации и будучи выдворена из дома со всем тем, что могла унести (на руки она взяла свою трёхлетнюю дочь, а больше ничего взять не смогла), – уже поняла, что ничего и ни от кого она не добьётся и думать теперь надо лишь о дочери, спасать её одну – от холода и бесприютности и от голодной смерти в буквальном смысле этого слова. Несколько ночёвок на берегу студёной Ангары, череда унижений перед знакомыми, отчаянно трусившими оставить её хотя бы на время, мгновенное увольнение с работы и лишение всяких средств к существованию – вот что случилось с ней сразу после ареста мужа, авторитет которого казался ей незыблемым, а жизнь – прочной и удавшейся. Если бы не дочь, Светлана Александровна утопилась бы в Ангаре (так соблазнительно было прыгнуть в зелёную пенящуюся воду с нового железобетонного моста, на открытии которого Пётр Поликарпович совсем недавно произносил вдохновенную речь). Но проще всего было повеситься (говорят, сознание отключается уже через несколько секунд и это почти не больно). В крайнем случае можно броситься под поезд. По большому счёту это всё равно. Светлана думала об этом как-то отстранённо, словно бы речь шла о другом человеке. Представляла, как тело её будет изуродовано стальными колёсами, обратится в кровавое месиво. Это было, конечно, очень страшно. Но и жить было страшно, и главное, непонятно: зачем ей теперь жить? Мужа своего она больше никогда не увидит – это она как-то вдруг поняла, почувствовала как непреложную истину. И – смирилась с этим непостижимым знанием (так человек иногда безошибочно предчувствует свою смерть).
Почерневшая, осунувшаяся, ранним утром она брела по ухабистой каменистой улице где-то на самом краю города. Она сама не знала, как сюда попала. Помнила только, что долго шла по нескончаемому мосту в холодном тумане, затем поднималась на крутую гору, потом долго спускалась по камням и глине, потом ещё один затяжной подъём – всё это в предрассветных сумерках, в глубокой тишине. Вдруг словно что-то толкнуло её; она остановилась, опустила дочь на землю и стала осматриваться. Она находилась на вершине довольно крутого склона. Дорога из-под самых ног уходила вниз и терялась в беспорядочном нагромождении деревянных домиков, заборов, огородов. Словно огромная чаша – перед ней расстилалась глубокая впадина, вся изрезанная кривыми улочками, усеянная оврагами и невысокими холмами. Повернувшись в другую сторону, она увидела густой сосновый лес, от которого пахло свежестью и веяло удивительным покоем. Светлана узнала это место: это была знаменитая Кайская гора – городская окраина, за которой была пойма Иркута – место очень красивое, почти волшебное. Здесь были заливные луга и покосы, отличная рыбалка и первозданная тишина – среди роскошной природы и удивительной ясности и покоя. Отсюда в ясные дни запускали бумажных змеев, а самые отважные летали на аэропланах в открывающуюся многокилометровую перспективу. Красота тут была неописуемая! Посёлок, захвативший эту гигантскую впадину, носил название Глазковского предместья. Это была самая настоящая деревня – с горланящими по утрам петухами, со свинюшками, свободно гуляющими по кривым улочкам, с ароматными печными дымами и с железными колонками, из которых жители носили домой чистейшую ангарскую воду. Кажется, время тут остановилось. А все страхи и невзгоды остались там, на другом берегу Ангары, где её бывший дом, где всем на свете заправляют люди в хромовых сапогах и где огромная мрачная тюрьма, в которой томится её Пётр. И зачем же это всё, когда совсем рядом такая красота и раздолье? Почему бы просто не жить и не радоваться яркому солнцу, и синему небу, и этому простору – темнеющим вдалеке горам и горящему под утренним солнцем Иркуту, берущему своё начало за триста километров отсюда, в отрогах снежных Саян. Множество людей сгрудилось на узеньком пространстве и беспрерывно воюют друг с другом, всё выясняют, кто больше прав, а кто меньше, да кто лучше понимает международную обстановку и борется за счастье всех людей. Но так странно получалось, что борьба за всеобщее счастье оборачивалась гонениями и смертями – тех самых людей, за счастье которых все и боролись. Как это так случается, понять было очень трудно. От всех этих мыслей впору было сойти с ума.
– Мамочка, пойдём домой, я кушать хочу! – вдруг произнесла её трёхлетняя дочь. Она не плакала и не капризничала, лицо её было серьёзно, глаза глядели совсем по-взрослому. От этого взгляда всё перевернулось внутри у Светланы. Она подхватила дочь, прижала к себе.
– Сейчас, милая, мы пойдём. Я тебя покормлю. Потерпи немножко. Сейчас…
И она направилась к ближайшим домишкам, подчиняясь слепому инстинкту, который гнал её к простым людям, не рассуждающим о высоких материях, а просто живущим, исполняющим свои немудрящие обязанности, – к тем самым, на которых и держится всё в этом мире.
Светлана приблизилась к крайнему дому и тихонько постучала в окошко с крашеными деревянными ставнями. На подоконнике за чистым стеклом стояла розовая герань в глиняном горшочке, и всё здесь было так тихо и спокойно, так по-домашнему, по-деревенски, что она позавидовала хозяевам. Вот как надо бы жить – где-нибудь на самой окраине, чтоб тишина и покой и никаких лозунгов, никакой погони за несбыточным счастьем. Счастье – вот оно – в этой тишине и незамутнённости, в косом солнечном свете, пробивающемся сквозь кроны тополей, счастье в придорожной пыли и в камнях, втоптанных в землю, оно – в петушиных криках, несущихся из разных концов теряющейся вдали улицы.
Занавеска отдёрнулась, выглянуло круглое лицо пожилой женщины. Секунда, и лицо исчезло.
Через минуту женщина вышла на улицу, на добром лице её читалась тревога.
– Чего тебе, милая? – спросила она прерывающимся от одышки голосом.
Светлана судорожно сжала руки.
– Нельзя ли у вас купить молочка? И поесть чего-нибудь… Дочка голодная, а я ничего, мне ничего не нужно, только бы дочку накормить. – И она опустила голову, словно была в чём-то виновата.
Женщина всплеснула руками.
– Заходите в дом, что ж вы стоите! Есть у меня и молоко, и творог, и сметанка домашняя. Сейчас, я мигом наведу. Самовар-то я уже поставила. Тебя как зовут, красавица? – вдруг обратилась к девочке. Та застеснялась, подняла руку и стала тереть кулачком правый глаз.
– Её Ланой зовут, – подсказала Светлана. – Это она стесняется. А так-то она у нас бойкая! Уже говорить умеет.
– А я Нина Мартемьяновна! Ты меня не бойся, я добрая, – сказала женщина и вдруг широко улыбнулась. Щёки волной ушли назад, широкие скулы натянулись, лицо сделалось ласковым и немножко смешным.
Девочка ещё ниже опустила голову и пробормотала:
– Я и не боюсь. Сами вы боитесь…
Добрая женщина открыла калитку, и все трое вошли во двор, где важно расхаживали куры, вдруг останавливаясь, поднимая ногу и кося одним глазом на гостей.
Через десять минут все трое сидели на кухне за квадратным столом, накрытым чистой белой скатертью. На столе была сметана в глиняном горшочке, слипшийся творог в глубокой тарелке, небольшие сдобные булочки с налипшим и подтаявшим сахаром, малиновое варенье в стеклянной розетке, сахар в пузатой сахарнице; тут же стоял блестящий самовар, от которого шёл густой пар, а рядом – фарфоровый заварничек со свежим чаем. Девочка за обе щёки уплетала булочку, макая её в сахар и заедая густой сметаной; перед ней дымился в большой фарфоровой кружке чай, который она осторожно прихлёбывала, наклоняясь и вытягивая губы. Кухонька была маленькая, с одним окном во двор и большой печью, возле которой лежали навалом берёзовые дрова и стояла в углу закопчённая гнутая кочерга. В углу висел цинковый умывальник, под ним стоял эмалированный таз на деревянной чурке. Тут же и мыло на деревянной подставке, на гвоздике – белый рушник.
Светлана незаметно осматривалась, а хозяйка деликатно молчала. Она уже поняла, что у этой женщины с печальным лицом случилось несчастье, и уже догадывалась кое о чём. Сколько она видела таких лиц за свою долгую жизнь – не счесть! И теперь ей не надо было ничего объяснять. Если гостья захочет – сама скажет, а с расспросами нечего лезть.
Так оно и случилось. Когда с булками и со сметаной было покончено и настала пора уходить, Светлана вдруг переменилась в лице, сделала порывистое движение. Выражение стало просительным и каким-то беспомощным. В глазах показались слёзы.
– Нина Мартемьяновна, – почти задыхаясь, начала она. – А нельзя ли тут где-нибудь снять комнату? Ненадолго, хотя бы на несколько дней, пока мы квартиру найдём… – И она опустила взгляд, застыдившись этой невольной лжи.
Женщина строго глянула на неё.
– А чего тут думать? У меня живите. Вон комната стоит пустая. Сын в ней жил. Уже второй год в армии служит. А комнате чего пустовать? Только пыль разводить. Живите, сколько нужно будет. И мне веселее. Где и по хозяйству поможете. Куры вон у меня. Петух по утрам надрывается на всю округу. Беда с ним!
Светлана вся вспыхнула, глаза её широко раскрылись.
– Правда? Можно у вас остаться?
– Конечно, можно. Я и денег с вас не возьму. – Хозяйка обиженно хмыкнула. – Чего ж мы, нехристи какие? Оставайтесь. Я ведь вижу – горе у тебя. Дочку мне твою жаль. Кабы не она… – Она махнула рукой и отвернулась.
Светлана опустила голову, стиснула зубы, чтобы не расплакаться.
– Спасибо вам, – едва проговорила. – Мужа у меня арестовали. А нас с дочерью из дома выгнали. И с работы уволили. Жить теперь негде. И денег у нас нет. Ничего нет…
Хозяйка внимательно слушала. Лицо её казалось строгим.
– Ты вот что, – взяла Светлану за руку, – живи тут, сколько потребуется. Я тебя не выгоню. А соседи будут спрашивать, говори, мол, племянница из Хомутово приехала погостить. Одежонку я вам справлю кой-какую. А если работать надумаешь, могу поговорить кой с кем. В клубе железнодорожников уборщица требуется. Вечером после сеанса вымыла полы – и свободна. Зарплата, правда, небольшая. И ходить далековато. Но ты молодая, сильная. Выдюжишь.
– А меня возьмут? – спросила Светлана, подняв лицо.
– Отчего же нет? – удивилась хозяйка. – А если и не примут, я сама оформлюсь, а ты работать будешь; деньги – все твои. У меня кассирша в клубе знакомая. Я попрошу её, она с завклубом поговорит. Поможет на первое время. А там, глядишь, и мужа твоего выпустят. И всё у вас наладится.
Светлана часто заморгала, на ресницах заблестели слёзы.
– Спасибо вам. Не знаю, что бы я делала, если б не вы. Это просто счастье, Бог меня услышал…
– Ну-ну, не надо. И не плачь понапрасну. Поди вон дочку переодень. Я тебе воды сейчас нагрею в тазу, помоешь её, а то она у тебя вся грязью заросла.
И она пошла к печке и стала укладывать дрова в топку.
– Я так и так уже топить собиралась. Ночи-то холодные стоят. Нынче до самой Троицы будут холода. Черёмуха ещё не зацвела, а как черёмуха отцветёт, так сразу тепло станет. Огород посеем, лучок будет свой, редиска, огурчики. Курочки будут нестись. Да и я ещё работаю пока. Ничего, проживём!.. – Она ещё что-то говорила, а сама привычно готовила растопку и закладывала её в печь. Поленья гулко бухали в пол, поскрипывала железная дверца, и уже потянуло горьковато-сладким дымом, затрещало и засипело в чёрном зеве. В кухне сразу стало уютнее, словно бы добавилось света. Светлана взяла дочку за руку и пошла в дальнюю комнату, где уже вовсю светило в окно утреннее солнце, отражаясь на круглых никелированных спинках железной кровати, укрытой толстым покрывалом с тремя положенными друг на друга подушками – совсем по-деревенски, по-старинному. Светлана вспомнила своё родное село и почти такой же дом – с приземистой печкой и крошечными комнатками. Точно так же пел петух по утрам и солнце косо светило в окно. Воспоминание придало ей уверенности. Как бы там ни было, а жить надо было – несмотря ни на что.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.




