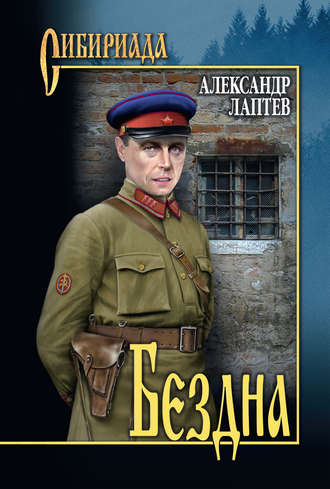
Полная версия
Бездна
Петру Поликарповичу сделалось жутко. Вспомнились слышанные однажды строчки сгинувшей в лагерях поэтессы:
Всё вижу призрачный, и душный,И длинный коридор,И ряд винтовок равнодушных,Направленных в упор…Команда… Залп… Паденье тела.Рассвета хмурь и муть.Обычное простое дело,Не страшное ничуть.Уходят люди без вопросовВ привычный ясный мир,И разминает папиросуСпокойный командир.Знамёна пламенную песнюКидают вверх и вниз,А в коридоре душном плесеньИ пир голодных крыс.Пётр Поликарпович вздрогнул и словно бы очнулся, посмотрел мутными глазами по сторонам. Вокруг были люди – понурые, притихшие, но всё-таки живые, тёплые, с целыми черепами и с ещё не погасшими надеждами. «А если и их всех так же вот, в подвале будут стрелять: пускать пулю в податливый мягкий затылок, а затем – цеплять петлёй за шею и тянуть наверх, в открывшийся люк. А там уже грузовик дрожит от натуги в ожидании очередной партии окровавленных обгаженных тел. Почему бы и нет? Ведь было уже так! В двадцатом году. Сколько десятков тысяч тогда расстреляли по всем подвалам ВЧК? А мы знали и – принимали как должное. Читали эту самую повесть, удивлялись, качали головами, даже и задумывались над прочитанным. Но – не ужасались, не цепенели от ужаса, не холодели до кончиков пальцев – как теперь вот! Это потому, что не примеряли всё это на себя. Думали: это всё не про нас, а – про других, про гадких и зловредных, про ненужных на этой земле. А вот поди ж ты, теперь, может статься, ты сам никому не нужен и повесть эта – про тебя!
Сердце сильно билось. Хотелось вскочить, броситься вон из душной камеры и бежать, бежать без оглядки – в пустые безлюдные пространства, продираться сквозь густые ветки, переплывать холодные реки и всё дальше уходить от этого кошмара, от простреленных черепов и дымящейся крови, от дрожания рук и судорог души! Не думать, не видеть, не вспоминать. Пётр Поликарпович с силой сдавил себе виски и согнулся пополам, будто хотел спрятать голову у себя на груди. Так он сидел, мерно раскачиваясь, а рядом теснились люди, и никому не было до него дела, потому что у каждого была своя беда, своя неизбывная боль, свой крест и свой конец – совсем уже близкий.
Пётр Поликарпович рвался на волю, стены давили его. Но про него словно забыли. Других каждую ночь забирали на допросы, а под утро возвращали – избитых, измученных, едва понимавших, что с ними и где они. С ними отваживались – давали пить из мятой алюминиевой кружки, мочили водой тряпочки и прикладывали ко лбу, к разгорячённым глазам, осторожно вытирали сочившуюся кровь, неумело стягивали сломанные кости. Избитые скоро исчезали из камеры. Куда их забирали – никто не знал. Вместо них появлялись другие – в городских костюмах и с растерянными лицами и расширенными зрачками. Их вскоре тоже приходилось перевязывать и отпаивать водой, и они в свою очередь исчезали вслед за предшественниками. Всё двигалось и менялось вокруг. Ничего не менялось лишь в положении Петра Поликарповича. Ни вызовов на допросы, ни каких угодно вестей – ничего! Он сидел в каменном мешке, где не было даже маленького оконца с дневным светом, зато в углу стояла деревянная ёмкость с дерьмом. Трижды в день арестантов кормили: утром давали кусок чёрного хлеба и кружку кипятку, в обед – миску баланды, вечером – снова кипяток. Пётр Поликарпович пробовал было проситься на прогулку, но конвоир так на него рявкнул, что Пётр Поликарпович молча сел на своё место и больше не задавал вопросов.
Прибывшие с воли приносили дурные вести. Бывший главный врач городской детской больницы Левантовский, с которым Пеплов был немного знаком по прежней жизни, поведал об арестах первых лиц области. Был арестован секретарь краевого оргбюро ЦК ВКП(б) Леонов. И сразу вслед за ним взяли первого секретаря крайкома Разумова. Его заместитель, первый секретарь крайкома Козлов пошёл вслед за ним. Была арестована Нина Михайловна Горбунова, занимавшая пост второго секретаря Иркутского горкома ВКП(б). Вместе с ней взяли всех секретарей горкома – Шеметова, Сахарова, Жука. Комсомолия тоже понесла серьёзные потери: прямо из кабинетов забрали Захарова, Полину Беспрозванных, Игнатова – секретарей крайкома, обкома и горкома ВЛКСМ. Средь бела дня посадили в чёрный воронок председателя облисполкома Пахомова. А ещё арестовали Важнова, Букатова, Шапиро, Калюжного, Кушановского, Тобиаса, Русакова, Косокова, Кауфана, Гисмана, Ербанова, Данилова, Чимидуна, Барайдина и ещё множество известных всему городу лиц. Все они занимали высокие посты: кто-то руководил научным институтом, кто-то заведовал больницей, кто-то руководил железной дорогой, были тут и профессора, и мастера по шахматам, и даже действительный член Американского антропологического общества – Бернард Эдуардович Петри. По мере того как Левантовский называл фамилии своим приглушённым голосом, Пётр Поликарпович деревенел и тупел. И под конец перестал чувствовать что бы то ни было, словно он попал в безвоздушное пространство. Мелькнула мысль, что перед ним провокатор. Или нет, скорее это сумасшедший. Но и это не так. Это всё похоже на сон, на бред воспалённого ума. Это всё ему лишь кажется – и камера с истерзанными людьми, и этот интеллигентный человек, так спокойно сообщающий ему невероятные вести. Стоит лишь крепко зажмуриться, р-раз! – и всё сгинет, как будто и не было никогда!
– Пётр Поликарпович, что с вами? Вам плохо? – послышался участливый голос.
Пеплов раскрыл глаза и увидел печальные глаза Левантовского. Нет, он не сумасшедший и не провокатор. И всё это происходит в действительности. Но тогда, быть может… Он схватил Левантовского за руку.
– Юрий Михайлович, а что если это контрреволюционный переворот? Власть захватили враги советской власти, и теперь они сажают всех преданных партии людей. Ведь это всё объясняет!
Левантовский печально покачал головой, произнёс со слабой улыбкой:
– Если б так! Это было бы проще всего. Но ведь красный флаг всё ещё висит над обкомом. И Сталин сидит в Кремле. Молотов с Ежовым тоже на своих местах. Советская власть сильна, как никогда! Теперь все только и говорят о советской власти и о партии большевиков. Митинги проходят каждый день, Сталина славословят, а врагов ругают, требуют суровой расправы над ними. Это мы с вами враги и контрреволюция. Так-то, дорогой Пётр Поликарпович.
– Я не враг советской власти! – вскинулся Пётр Поликарпович.
Левантовский согласно кивнул.
– Охотно верю. А как насчёт этих? – И он кивнул на соседей по камере.
Пётр Поликарпович скосил глаза, подумал несколько секунд.
– Не знаю. Я ведь с ними незнаком. Мало ли что бывает!
Левантовский опять кивнул.
– То-то и оно. Все теперь так и рассуждают, особенно те, кто на воле. Они ведь не знают, кто и за что арестован. А может, нас всех за дело посадили? Откуда им знать? И вы, Пётр Поликарпович, если были бы теперь на свободе, тоже осуждали бы врагов и вредителей, требовали суровой расправы с негодяями.
– Да вы что? С чего вы взяли? Я бы никогда не осудил невинного человека.
– А врага осудили бы?
Пётр Поликарпович неуверенно кивнул.
– Пожалуй, врага бы я осудил. Если бы точно знал, что он враг.
– Ну вот вам и объяснение! Нас и считают врагами! А как же иначе? Если в газетах пишут, что мы шпионы и диверсанты (а газетам мы привыкли верить), и если следователи добиваются от нас чистосердечных признаний и публичного покаяния, а всякие докладчики и агитаторы без устали выступают на митингах и собраниях, проклинают подлых вредителей. Как тут не поверишь? Любому дураку ясно: правильно нас взяли! И всем нам прямая дорога – на тот свет. Чтоб не путались под ногами у нарождающейся смены, не мешали уверенной поступи самого справедливого общества в мире.
Пётр Поликарпович отстранился.
– Погодите. Я лично ни в чём не признался и признаваться не собираюсь. За что же меня расстреливать?
– На второй день после вашего ареста уже была статья в «Восточно-Сибирской правде», где сообщалось о том, что вы во всём признались, изобличены неопровержимыми уликами и показаниями своих подельников. И я, честно вам скажу, призадумался: а может, чего и было. И все остальные рассуждают точно так же. – Левантовский вздохнул. – Нет, Пётр Поликарпович, советскую власть никто и не думал свергать. И это всё, – он обвёл рукой камеру, – её милые проделки. С воли мы точно помощи не дождёмся. Разве что от родных. Но они сами теперь в опасности. Жён ведь тоже берут вслед за мужьями. Детей передают в детские дома. А вы разве не знали? – И Левантовский с грустью посмотрел на Пеплова. Тот в первую секунду не знал, что сказать. Поверить в услышанное было слишком страшно, но и не верить он не мог. Зачем Левантовскому обманывать его? Если только… его самого не обманули.
– А у вас есть дети? – быстро спросил Пеплов.
Левантовский кивнул.
– Есть. Дочь работает педиатром в детской больнице. А сын – геолог. На Дальнем Востоке, в Дальстрое. В тридцать первом завербовался. Погнался за длинным рублём. Может так случиться, что скоро мы с ним увидимся.
– Вы думаете, его тоже арестуют?
– Нет, я думаю, произойдёт обратное: меня отправят к нему.
– То есть как? – не понял Пеплов.
– На Дальний Восток, в бассейн Колымы, – чуть усмехнувшись, ответил Левантовский. – Там сейчас активно развивается золотодобыча. Требуются рабочие руки. А кто туда по своей воле поедет? Ну, геологи – это ещё куда ни шло, им за это деньги платят. А вот мёрзлый камень долбить да тачку на себе возить с утра до ночи – на это охотников нет. Вот нас с вами и отправят на Колыму добывать золото для страны. Надо же на что-то покупать американские станки и немецкое вооружение.
– Вы полагаете, что нас могут отправить на Дальний Восток? – спросил Пеплов, ещё не зная, как отнестись к подобной перспективе.
– Это вполне вероятно, – был ответ. – Туда сгоняют заключённых со всего Советского Союза. Везут пароходами из Владивостока, сгружают на голый берег и гонят пешими этапами туда, куда Макар телят не гонял. Сын рассказывал, когда приезжал в отпуск в прошлом году. И знаете, о чём он поведал? – Глаза Левантовского неожиданно сверкнули, зрачки на миг расширились и обратились в точки. – Он работает в Дальстрое с тридцать второго, ещё застал Блюхера и его команду. Первую зиму, когда ещё не было заключённых, все они жили в армейских утеплённых палатках, и никто тогда не умер. А через год, осенью, по морю прибыл первый этап – двенадцать тысяч заключённых. Продуктов для них не завезли вовремя. И никаких строений не было приготовлено. Как вы думаете, сколько из них дожили до весны?
Пеплов задумался на секунду, потом ответил:
– Ну, по моему прошлому опыту, думаю, процентов девяносто… или, может, восемьдесят, учитывая тамошний климат.
Левантовский опустил голову и глухо проговорил:
– Все двенадцать тысяч заключённых умерли от голода, никто не пережил ту зиму. Даже охранники погибли. Собак всех поели, кошек ловили, птиц. Раскапывали свежие могилы и отрезали куски мяса от мертвецов. Травились трупным ядом, конечно. Теряли рассудок. Кто-то раньше умер, кто-то чуть позже. Кто от голода, кто от авитаминоза. Кого-то блатные сразу убили, а кто в сопках замёрз. Некоторые пытались бежать. Но куда там побежишь – зимой, в пятидесятиградусный мороз, без одежды, без продуктов. Населённых пунктов в нашем понимании там нет. Поезда туда не ходят и ещё тысячу лет не будут ходить. Самолёты не летают. Обычных дорог – и тех нет! Бежать там попросту некуда.
Пётр Поликарпович медленно покачал головой.
– Этого не может быть. Я вам не верю. Как же это? Завезли столько людей, а продуктов не предусмотрели? Это что, диверсия? Вредительство? Кто-нибудь наказан за это?
Левантовский пожал плечами.
– Ну да, расстреляли несколько человек для острастки. А на следующий год история повторилась. В ноябре тридцать третьего снова этап – шестнадцать тысяч. И снова – в чистое поле, в мёрзлую землю. На этот раз привезли муку в мешках, какие-то крупы, рваные палатки. Но продукты быстро закончились, а палатки не спасали от лютых морозов. Адаптация на Крайнем Севере – очень непростая штука, даже при хорошем питании и нормальных бытовых условиях. А когда, я извиняюсь, людям жрать нечего, а на ногах резиновые чуни – это в сорокаградусные морозы, – что тогда? И вот итог: из шестнадцати тысяч заключённых до весны дотянули чуть более трёх сотен. Да и тех пришлось срочно вывозить на Большую землю, все получили инвалидность, признаны негодными к труду. Считай – калеки на всю жизнь. Кто без руки, кто без обеих ног. У всех носы отморожены, куриная слепота, пеллагра, дистрофия, глубочайшая душевная травма.
Пётр Поликарпович с беспокойством огляделся. Ему вдруг показалось, что это он оказался на краю земли, в царстве холода и неизбывной тоски. Что такое холод – он знал не понаслышке. Студёную сибирскую зиму девятнадцатого года он провёл в глухой присаянской тайге. Тогда у них, правда, были продукты. Ведь все были местные. Охотились в тайге, таскали рыбу из лунок, жители окрестных деревень им помогали, прятали раненых от колчаковцев, отогревали в лютую стужу.
А если опять доведётся попасть в тайгу, без пищи, без нормальной одежды, да под конвоем?.. Пётр Поликарпович передёрнул плечами и подумал: избави бог от такой судьбинушки. Уж лучше сразу умереть.
Он пошевелил губами и произнёс задумчиво:
– Не знаю, Юрий Михайлович. Как-то вы всё видите в мрачном свете. Я лично не собираюсь ехать ни на какой Дальний Восток.
– Ну так вас в Бамлаг отправят – это ненамного лучше. Там тоже нужны рабочие руки – рельсы прокладывать сквозь тайгу. От Иркутска не так уж и далеко – всего тысяча километров.
Пеплов нахмурился.
– Туда я тоже не поеду. Я ни в чём не виноват перед родной советской властью, и я собираюсь это доказать.
Левантовский через силу улыбнулся.
– Ну что же, желаю вам успеха!
Пеплову почудилась насмешка в последней реплике. Он хотел ответить какой-нибудь резкостью, но в последний момент сдержался. Уж очень жалко выглядел его оппонент. Ему тоже, должно быть, тяжело и больно – гораздо тяжелей, чем Пеплову. Ведь он не верит в благоприятный исход дела, заранее согласен ехать на Колыму. Как же можно с этим жить? Покорно ждать, когда тебя отправят за тридевять земель на верную смерть. Или расстреляют прямо тут, заставив признаться в несуществующей вине. Нет, уж лучше сразу в петлю – и конец всем мучениям!
Пётр Поликарпович обвёл взглядом мрачные стены и убедился, что свести счёты с жизнью здесь нельзя. Нет ни верёвок, ни каких ни то упоров и крючков. Люди сидят так тесно, что любое намерение сразу же открывается. Здесь ты уже не хозяин самому себе. Тут можно лишь терпеть – всё, что ниспошлёт тебе судьба.
Больше они в этот день не говорили. Пётр Поликарпович, кое-как пристроившись между нарами и стеной, задремал. А когда проснулся, увидел, что Левантовского нет в камере.
– Забрали на допрос, – с неохотой сказал, повернувшись, угрюмый старик, когда Пётр Поликарпович спросил его о товарище.
Левантовского приволокли глубокой ночью, втащили в камеру за руки и бросили, словно куль, на цементный пол. Пеплов сразу же подошёл к нему. В тусклом свете едва разглядел разбитое в кровь лицо, слипшиеся от пота и крови волосы, различил прерывистое дыхание.
Левантовский раскрыл веки и, разглядев товарища, едва заметно кивнул.
– Вот видите, а вы мне не верили. Всем нам крышка. Теперь я в этом окончательно убедился. С этими людьми нельзя договориться. Мы для них – скот. Они нас за людей не считают. Но я им тоже кое-что сказал. Пусть не думают, не на того напали.
Пётр Поликарпович помог ему приподняться. Оторвал кусок своей рубахи, намочил водой из кружки и протянул товарищу.
– Спасибо, – сказал тот дрогнувшим голосом. Стал осторожно вытирать лицо, морщась и вздрагивая. – Это ничего, – приговаривал придушенным голосом. – Щиплет немного, а так ничего, не очень и больно. Главное, что кости целы.
Пётр Поликарпович молча смотрел на него. Вдруг заметил, что Левантовский улыбается.
– Вы знаете, я сегодня провёл с ними эксперимент. Высказал им всё, что о них думаю. По крайней мере, нам было о чём поговорить. Нельзя же всерьёз обсуждать все эти глупости, в которых нас обвиняют. За это и получил… Впрочем, меня всё равно бы избили. Ведь это у них основной метод поиска истины. С избитым человеком гораздо проще разговаривать. То, что обычному человеку приходится втолковывать по несколько раз, избитый понимает сразу, усваивает на уровне рефлексов. Другое дело – соглашается ли он с услышанным. Я, например, не согласился. Более того, я сам кое-что объяснил им о том, что они такое, откуда вышли и куда придут. И вот вам результат.
– Что же такого вы им сказали? – спросил Пеплов.
– Да всё то, о чём думал много лет, но не решался никому сказать, даже своим близким. А теперь вдруг подумал: какого чёрта? Всё равно умирать. Пусть услышат хотя бы от меня правду-матку.
– Очень интересно! – подхватил Пётр Поликарпович. – Вы знаете какую-то особенную правду?
– Да, знаю, и это вовсе не секрет для думающих людей. Я им в лицо сказал, что социализм у нас невозможен. По крайней мере теперь. Лет через тысячу, пожалуй, он и может наступить. Но не путём революций и расстрелов, а исключительно естественным образом, без всех этих потрясений и убийств. Примерно так, как растёт и развивается любой организм в природе. Вчера это была личинка, сегодня гусеница, а завтра будет бабочка. И всё это постепенно, без резких переходов. Нельзя в одну секунду личинку превратить в бабочку! Так же как нельзя отсталую Россию вдруг сделать социалистическим раем. Общественное благополучие должно вызреть и подготовиться. На это нужны не годы, а – века.
Пётр Поликарпович нахмурился.
– Ну, это никакая не новость. Оппортунисты то же самое говорили. А Ленин их разоблачил и дал им принципиальную оценку.
Левантовский резко обернулся.
– Да какая же это оценка? Ленин умел лишь ругаться и навешивать ярлыки. Один у него ренегат, другой – политическая проститутка, третий – недоносок, кругом него сплошь сволочи и ублюдки. Виднейшего социал-демократа Каутского, который редактировал «Капитал» Маркса и состоял в переписке с Энгельсом, он печатно обзывал ренегатом, реакционером, прислужником буржуазии и только что матом не ругался. И заметьте: прав-то в итоге оказался именно Каутский! Он говорил то, что и все нормальные люди! Ленин даже со своими ближайшими соратниками расплевался, когда они ему пытались объяснить очевидные факты. Боевик и профан Сталин оказался ему ближе интеллигента и умницы Мартова! Вот вам Ленин и вся его наука. Все его статьи и речи – это сплошная демагогия, словесная эквилибристика, подтасовка фактов и безудержный поток оскорблений. Говорили ему и Мартов, и Плеханов, и почти все европейские социал-демократы о том, что революция в России приведёт к массовой резне и деградации, что Россия не готова к социализму, что надо обождать лет двести по крайней мере. Приводили в пример Францию с её кровавым Термидором и полной вакханалией, закончившейся Наполеоном и национальным унижением. Цитировали Маркса, который презирал славян, а все свои теории готовил для просвещённой Европы, вовсе не имея в виду отсталую Россию. Что им на это отвечал Владимир Ильич? Да ничего вразумительного. Истерические лозунги и бесшабашная уверенность в том, что всё как-нибудь само собой наладится. Ничего другого он предложить не мог, потому что сам ничего не знал и не понимал, живя в своей Швейцарии. Ленин совершенно не знал Россию и пробавлялся глупыми фантазиями о сознательном мужике и грамотном рабочем. Верил в пустую теорию, совершенно не понимая практики. За месяц до Февральской революции он публично заявлял, что до революции в России он не доживёт, а вся надежда – на будущие поколения. И вдруг свершилась Февральская революция, притом – совершенно без участия большевиков! Тут они все и нагрянули – кто из-за границы, а кто-то из ссылки примчался на всех парах, ведь их всех выпустили тогда стараниями тех же эсеров и кадетов, которых большевики впоследствии объявили вне закона и стали безжалостно истреблять. А что они осенью семнадцатого устроили – об этом вы и сами знаете. Разогнали законно избранное Учредительное собрание, захватили власть и стали управлять. Что же мы имеем теперь, двадцать лет спустя?
Пётр Поликарпович промолчал.
– Сначала была кровавая Гражданская война, уничтожение ближайших политических союзников и целых сословий, истребление лучших умов во всех сферах деятельности. В результате промышленность остановилась, продуктов не стало вовсе, наступил всеобщий хаос. Тогда большевики начали отбирать всё ценное у населения, называя это экспроприацией. А в деревне устроили форменный грабёж под видом продразвёрстки. За всю тысячелетнюю историю Руси не было ничего подобного! Даже татары так страшно не грабили русских крестьян, как это делали большевики в течение трёх лет. Вполне закономерно начались восстания. В двадцатом году Тамбовская губерния поднялась против большевиков. Целый год Тухачевский со всей своей армией не мог справиться с неграмотными крестьянами. Пришлось применять против них артиллерию и химическое оружие, выжигать целые сёла, сгонять пленных в концлагеря и массово брать заложников. А на следующий год случился неслыханный голод в Поволжье – с миллионными жертвами, с людоедством. Пять миллионов умерло от этого голода – можете вы представить эту цифру? В городах была полная разруха и дезорганизация. Ведь нельзя же всё время воевать и убивать, надо же что-то и производить! А об этом никто и не подумал.
Ведь что произошло? До семнадцатого года почти полвека только и делали, что ругали царизм и капитализм. Уж так всё плохо было, что хоть в петлю лезь! И весь этот революционный энтузиазм на этом и держался – на ненависти к собственной стране, к её тысячелетней истории. При этом большевики обещали всем немедленное счастье – этакий социалистический рай, который наступит сразу после свержения царизма и утверждения советской власти. Но рай, как вы, наверное, знаете, не наступил и не мог наступить. Надежды на сознательность рабочих масс и крестьянства не оправдались. Нужно было работать, а не митинговать. Каждый работник должен быть заинтересован в своём труде, только тогда труд будет высокопроизводителен (о чём так беспокоился Ленин). Но этого-то интереса большевики и лишили всех поголовно – и рабочих на фабриках, и тем более крестьян в деревнях. Ну зачем крестьянину пахать и сеять, если урожай у него всё равно отберут? А рабочему зачем целый день стоять за станком, если на его нищенскую зарплату нельзя ничего купить? Вот и не стало в стране ничего – ни хлеба, ни металла, ни, извините, штанов. Вышло так, что правы оказались эсеры, а не большевики. Правы оказались европейские демократы во главе с Каутским! Но Ленин был неглупый человек. После Тамбовского мятежа он наконец-то понял, что нужно что-то кардинально менять в экономическом укладе. Он объявил НЭП и фактически признал правоту всех тех, кто говорил о невозможности немедленного социализма в России. Отменили продразвёрстку, дали свободу мелким кооператорам, разрешили крестьянам продавать излишки хлеба и овощей. Лишь тогда народ немного перевёл дух. Деревня стала оживать, в городе появились продукты, кровавые бунты прекратились. И так бы всё и наладилось постепенно. Но в двадцать девятом Сталин неожиданно свернул НЭП, разогнал кооперативы и стал грубо насаждать колхозы. Вот тогда-то и случился ещё один страшный голод, от которого умерло уже не пять, а пятнадцать миллионов человек! И опять начался террор в деревне, затем сфабриковали процесс над Промпартией и Шахтинское дело, стали искать вредителей среди технической интеллигенции; потом, вы знаете, было убийство Кирова и самоубийство Орджоникидзе. Начались аресты и казни ближайших соратников Ленина, и наконец добрались до нас с вами. Иначе и быть не могло! Всё это предвидели умные люди задолго до семнадцатого года. Да только их никто не слушал.
Произнеся столь длинную тираду, Левантовский уронил голову на грудь. Пётр Поликарпович молчал, поражённый услышанным. Не думал он, что здесь, в тюрьме, услышит подобные речи. Он и хотел что-нибудь возразить, но стал припоминать и вспомнил, что уже слышал в разные годы и от разных людей схожие высказывания. И о невозможности революции в отсталой России. И о разоре деревни (это он и сам видел в своём селе). Знал и про страшный голод, выкосивший целые регионы. И про все эти странные процессы над старыми большевиками, соратниками Ленина, – с удивлением читал в газетах. Ходили упорные слухи о последних письмах Ленина, в которых он требовал смещения Сталина с поста генсека, говорил о его грубости, нетерпимости к иному мнению. Но об этих письмах говорить было опасно. В какой-то момент все это поняли и – замолчали. Стало вдруг невозможным говорить то, что думаешь. И все стали повторять лишь то, что требовалось в данную минуту. В двадцать восьмом, когда боролись с левым уклоном – ругали всех тех, кто требовал сворачивания НЭПа и немедленной индустриализации. А уже через два года стали ругать правый уклон – за то, что не верили в быструю индустриализацию и предлагали пожалеть мужика (так что даже появился нелепый термин: «левацко-правый уклон», пустил в оборот его сам Сталин (бездарно подражая Ленину), и все с готовностью согласились, что это и своевременно, и очень мудро). Так происходило каждый раз: надо было соглашаться с генеральной линией партии, даже если ты беспартийный и если ты думаешь иначе. А иначе – плохо будет тебе. Это поняли ещё до всяких процессов. Оно как-то само почувствовалось, будто в воздухе появилась некая примесь – и всё вокруг стало иным.




