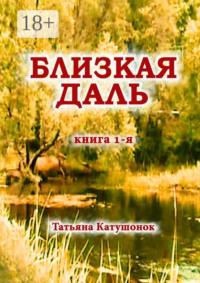Полная версия
Близкая даль. Мистический роман
– Неа!.. – покачал головой Рыжик.
Гольдман побарабанил пальцами руки по парте и скомандовал:
– Рыжаков, встань!
Парень встал из-за парты и уткнулся глазами в пол.
– Посмотри мне в глаза! – приказал директор.
Парень оторвал взгляд от пола и с опаской посмотрел на мужчину.
– Так, говоришь, лиц их ты не разглядел…
– Неа!.. – подтвердил Рыжик.
– А по голосу опознать смог бы?.. – поинтересовался Гольдман.
– Я же сказал, что над озером стоял плотный туман, лодка с берега была не видна, не разобрал я по голосу, кто говорил…
Седельский не сводил с друга глаз. «Вот болван, – злился парень, – кто тебя тянул за язык? Выкручивайся теперь…»
– А вы знаете, что любой клад – где бы он ни был найден – является достоянием нашей страны и любая информация о месте его нахождения, скрываемая от властей, является преступлением и наказуема в соответствии с действующим законом?.. – пристально глядя на парня, произнес Гольдман.
Виктор не ожидал такого поворота дела.
– Так я же толком ничего не знаю… – попытался отвертеться парень. – Я только хотел уточнить, треп это или нет.
Константин понял, что надо выручать друга, и продолжил рассказ:
– Представляете, в наших краях проходили русские войска под командованием Багратиона, Барклая-де-Толли, геройски сражался корпус Витгенштейна, вели активные действия против неприятеля Чичагов и Тормасов, бывал даже царь Александр первый!..
Гольдман с нескрываемым интересом посмотрел на ученика, с воодушевлением рассказывавшим о героях войны 1812 года.
– Несмотря на величайшие трудности войны, – завершил свой рассказ Константин, – русская армия победила. По итогам войны потери русской армии составили 200 тысяч человек, а Наполеон за время похода в Россию потерял 550 тысяч человек.
– Так им и надо! – гневно буркнул Юрка Стригунов. – Нечего было лезть в Россию. Чего им дома не сиделось?..
Класс моментально оживился и загудел, как растревоженный улей. Ученики забыли, что сидят на уроке, и стали поносить ненасытных завоевателей.
– Правильно предупреждал в древности великий князь Александр Невский, что кто на святую Русь с мечом пожалует – от меча и погибнет! – заявил Михаил Савчук.
Гольдман призвал учеников к порядку, подошел к учительскому столу и окинул класс удивленным взглядом. Он был поражен, какой резонанс вызвал в сердцах учеников рассказ Константина.
– Что ж, молодец, – похвалил любимого ученика директор, – чувствуется, что книгу ты прочитал внимательно. А кто из героев Отечественной войны 1812 года тебе более всего близок?
– Денис Васильевич Давыдов, – ответил парень.
– Почему?
– Это был удивительный человек. С самого рождения он был наделен многими талантами. Денис Васильевич Давыдов обладал редким поэтическим даром, был хорошо знаком с Пушкиным и был близок с декабристами. В поэзии он явился создателем жанра «гусарской лирики», что повлияло на творчество самого Пушкина. В жизни Денис Васильевич отличался веселым нравом, был душой любой компании и дружеских бесед, а в боях отличался находчивостью, необыкновенной отвагой и храбростью. В начале войны 1812 года Денис Васильевич служил подполковником в гусарском полку и находился в авангардных войсках генерала Васильчикова. В августе 1812 года, за несколько дней до Бородинского сражения, Давыдов предложил Багратиону идею организации партизанского отряда. Его быстрые успехи в этом убедили Кутузова в целесообразности ведения партизанской войны, и именно Давыдов не замедлил дать ей самое широкое развитие. Одним из выдающихся подвигов Дениса Васильевича было дело под Ляховым, где он вместе с другими партизанами взял в плен двухтысячный отряд противника! Под городом Копысь он со своим отрядом уничтожил французское кавалерийское депо, разгромил неприятельский отряд под Белыничами и занял город Гродно. Кроме выдающихся ратных подвигов, Давыдов оставил после себя большое поэтическое и литературное наследие. По ценности сообщаемых данных его военные воспоминания имеют немалое значение для истории войны той эпохи.
Также я отметил бы Надежду Андреевну Дурову, которая еще задолго до войны в сентябре 1806 года бежала из родительского дома, в котором чувствовала себя чужой. Переодевшись в мужской казачий костюм, она выдала себя за дворянина и присоединилась к казачьему полку, назвавшись Александром Соколовым. Под этим именем, дойдя с казаками до города Гродно, она завербовалась в Коннопольский уланский полк. Узнав из письма ее отца о том, что она – женщина, царь Александр первый первоначально намеревался наградить ее и возвратить по просьбе отца в родительский дом, но после настоятельной просьбы Дуровой разрешил остаться ей в армии и повелел именоваться в честь своего имени Александровым. Император также приказал зачислить ее в аристократический Мариупольский гусарский полк. А узнав, что Надежда Андреевна спасла на поле боя жизнь офицера, он собственноручно наградил ее Георгиевским крестом. Эта ее награда – первый и единственный раз со времени учреждения этого главного воинского ордена России, когда он был вручен женщине. Надежда Андреевна Дурова прослужила в гусарах три с лишним года, а затем по ее просьбе была переведена в Литовский уланский полк. Отечественную войну 1812 года она встретила в чине подпоручика и вскоре за боевые заслуги была произведена в поручики. Сослуживцы Дуровой свидетельствуют, что ее храбрость не знала границ, эта удивительная женщина всю жизнь считала звание воина самым благородным из всех остальных. В армии она слыла столь отличным офицером, что была удостоена чести быть адъютантом Кутузова, пока не получила серьезную контузию в битве при Бородино. В 1816 году, прослужив в армии десять лет, Надежда Андреевна по просьбе отца вышла в отставку в чине штабс-ротмистра, но оставив воинскую службу, не сняла военного мундира и не отказалась от мужской роли, взятой на себя много лет назад. Даже с людьми, знавшими ее с детства, она говорила от мужского имени. Всю свою воинскую жизнь Надежда Андреевна вела подробные записи, из которых она со временем решила составить литературную автобиографию. Брат Дуровой был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным и сумел убедить сестру послать ему свои произведения. Пушкин, прочитав «Записки» Дуровой, признал за ней редкий литературный талант и пожелал быть их издателем. Выход в свет ее романа «Кавалерист-девица» взбудоражил всю общественность. Вслед за первой книгой Надежда Дурова написала и издала «Повести и рассказы» в четырех томах. В последние годы своей жизни она жила в Елабуге, ходатайствовала перед местными властями за тех, кто обращался к ней за помощью. Показательно, что из любви и сострадания к животным она превратила свой дом в приют для брошенных и увечных животных, а после своей кончины завещала называть себя Александром Андреевичем Александровым, тем самым именем, которого она сама для себя добилась и под которым прожила всю жизнь…
– Вот это женщина!.. – восторженно произнес Седельский. – За такой хоть в огонь, хоть в воду…
– Это точно, – согласился Григорий Писаренко.
Гольдман с гордостью посмотрел на Константина. «Я в нем не ошибся…» – подумал директор.
– Благодарим за интересный рассказ, – произнес мужчина. – Чувствуется, что вы внимательно прочли книгу. Хотелось бы, чтобы и другие ученики вашего класса столь же живо интересовались исторической наукой.
– Ребята, есть вопросы? – поинтересовался парень.
Класс молчал. Надоедливая муха, жужжа, билась об оконное стекло, пытаясь вырваться на волю. Раздался звон колокольчика, школьный коридор наполнился шумом, но никто из старшеклассников даже не подумал покинуть класс. «Надо же, как они присмирели, – удивился директор, – сидят, словно очарованные. Вот что значит сила слова…»
– Молодец! – похвалил оратора Гольдман. – Ты своим рассказом сделал то, что мне не удавалось на протяжении долгого времени.
– Я просто пересказал прочитанное, – ответил Константин.
Гольдман внимательно посмотрел на учеников и удивился, насколько изменились их выражения лиц – они стали серьезными и задумчивыми.
«Надо же, как их тронул его рассказ, – изумился мужчина, – похоже, из парня выйдет толк…»
Директор взял со стола журнал успеваемости и вышел из класса. Какое-то время в комнате царила тишина, рассказ Константина оставил в душах старшеклассников неизгладимый след – они словно повзрослели на несколько лет и смотрели на мир другими глазами. Ребята осознали, что мир, в котором они живут – весьма хрупок. Достаточно одному распираемому нездоровыми амбициями властелину позариться на то, что принадлежит другому народу, и может вспыхнуть война – одна мысль об этом приводила школьников в ужас.
– А насчет Дуровой ты не приврал?.. – поинтересовался Семен Селистратов. – Не верится, чтоб молодая, воспитанная мамками да няньками девчонка, сбежала из дома в армию. Она что – других занятий себе не нашла?
– Что ты пристал к человеку? – возмутился Дмитрий Мохов. – Сказал же, что проходила она в мужском костюме всю жизнь и другой одежды не знала…
– И все же я хочу уточнить… – настаивал Семен. – Она что, никому из друзей не призналась, что она девица, а во время сражений рубилась наравне с мужиками?..
– Хочешь – верь, хочешь – нет, а я сказал правду, – ответил Константин. – В ее время многие отказывались в это верить, однако заслуг этой женщины это не умаляет. А воспитывали ее не мамки и няньки, а пожилой гусар Астахов, которому отец вверил свою дочь на воспитание. С малых лет девочка оказалась на попечении человека, который кроме военного дела ничего не знал, потому и пристрастил к этому свою малолетнюю воспитанницу. Он сажал ее на лошадь, давал играть с настоящим пистолетом и саблей, с малых лет выучил разным командам, и год за годом развил в ней воинские наклонности. Когда ей исполнилось двенадцать лет, отец купил неукротимого черкесского жеребца, выездил его, назвал Алкидом и подарил дочери. Надежда полюбила коня и всей душой привязалась к нему. Втайне от матери по ночам она выводила любимца из конюшни в поле и скакала на нем. Она не любила женские занятия, а женская участь представлялась ей в весьма мрачных картинах…
– Неужели за всю жизнь она никого не полюбила? – поинтересовалась Фаина.
– Чисто женская логика… – ухмыльнулся Селистратов. – Кто о чем, а девчонки о лирике…
– А почему ты меня об этом спрашиваешь? – поинтересовался Константин.
Фаина залилась румянцем и тихо произнесла:
– Ну, как же? Она ведь живой человек, наверняка она кому-то симпатизировала… Она что – так и не вышла замуж? Тогда мне ее очень жаль…
– Я же говорю, кто о чем, а она о вздохах и поцелуях… – прокомментировал слова одноклассницы Селистратов.
– И вовсе не о вздохах и поцелуях, а о человеческой жизни, – вступилась за подругу Зинаида. – Что такого в том, что она поинтересовалась, была ли Дурова замужем? Вполне нормальный вопрос. Придет время, и ты, Селистратов, никуда от этого не денешься.
– Очень надо!.. – фыркнул парень.
Девчата переглянулись и с сожалением посмотрели на одноклассника, слова парня их задели.
– Это ты сейчас так говоришь, – с вызовом произнесла Роза, – посмотрим, что ты запоешь через несколько лет…
– Что с вами говорить? – махнул рукой Семен. – У вас одно на уме…
– Правда? – возмутилась Зинаида. – И что же у нас на уме?..
– Сами знаете! – отмахнулся парень.
– Что?
– То, что вы только и мечтаете, как бы скорее выскочить замуж!
Зинаида оторопела.
– Это кто ж тебе внушил такую чепуху? – поинтересовалась девушка. – А еще комсомольцем мечтаешь стать…
– Кто тебе сказал, что я этого хочу? – выпалил парень.
– Вот те раз… – опешил Константин. – Ну ты, Семка, даешь… Ты же сам мне говорил…
– Ничего я не говорил, – насупился Селистратов.
Константин не знал, что думать…
– Постой, давай разберемся: неделю назад ты спрашивал, когда будут принимать в комсомол…
– Что-то я этого не припомню, – побагровев, ответил Семен.
– Ну как же… Дня летом не проходило, чтоб ты ко мне не приставал с этим вопросом…
Семен злобно глянул на Константина и сквозь зубы процедил:
– Видно, тебе это во сне приснилось.
– Ну надо же… – покачал головой Николайчук.
– Что ты ко мне привязался? Тоже мне – воспитатель нашелся… – насупился Семен.
Константин смотрел на одноклассника и не мог взять в толк, почему он так себя ведет.
– У тебя семь пятниц на неделе… – махнул рукой парень. – А насчет сердечных дел Дуровой, так она была влюблена… В возрасте четырнадцати лет она гостила у бабушки в Малороссии и познакомилась с сыном соседки-помещицы, которая даже слышать не хотела о женитьбе сына на бесприданнице. Кто знает, как сложилась бы жизнь интересующей вас особы, если б она вышла замуж за любимого человека, но судьба распорядилась иначе…
– Такая удивительная женщина, и такая несчастная любовь… Ты что-то не дочитал, Костька… – с сожалением произнесла Роза.
– Я тоже думаю, что такая удивительная женщина не могла остаться одна, – заметил Стригунок.
– С одной стороны – ты прав, с другой – нет… – ответил Константин. – Родители забрали Надежду домой, и она, желая освободиться от материнского деспотизма, вышла замуж за местного чиновника. Вскоре у них родился сын, которого назвали Иваном, а через год Дурова ушла от мужа и вернулась в отчий дом.
– Через год? – удивилась Фаина.
– Да, – кивнул Константин.
– Вот и верь после этого девчонкам… – насупился Юрка. – Если такая легендарная женщина так поступила со своим мужем, что ожидать от других…
Старшеклассники оживились и стали бурно обсуждать поведение Дуровой в замужестве.
– Что-то послужило причиной ее ухода… – задумчиво произнесла Тамара. – Не могла она просто так бросить мужа…
– Что послужило тому причиной, не известно, – ответил Константин. – Описывая свою жизнь, Дурова ни единым словом не обмолвилась о бывшем муже и сыне.
– Ну и дела… – покачал головой Стригунок. – Как такое может быть, чтоб родная мать не упомянула о сыне?
– Не знаю, – пожал плечами Константин. – На словах она, может, и упоминала, но в литературных сочинениях – нет.
– Бедная женщина, – вздохнула Зинаида. – До чего ей опостылела женская доля, что она приняла решение взять на себя роль мужчины…
– Наверное, для этого были серьезные причины, – заметила Тамара.
– Женская участь представлялась Дуровой в весьма мрачных тонах, – произнес Константин. – В принадлежности к женскому полу она видела причину всех своих бед, потому решила выдать себя за мужчину и поступить на военную службу…
– И, надо сказать, не прогадала… – заметил Мохов. – Если б она этого не сделала, неизвестно, смогла бы Надежда проявить те качества, которые выявила в ней армейская жизнь…
– Безусловно, – согласилась Настя. – У каждого в жизни есть предназначение, важно правильно определить его и исполнить.
Разговор старшеклассников прервал шум в коридоре. Ребята узнали голос директора, который оживленно разговаривал с агрономом колхоза. Градов описал Гольдману события прошедшей ночи, те беды, которые натворил ураган в деревне. Абрам Романович внимательно выслушал его и заверил, что коллектив школы и ученики примут самое активное участие в устранении последствий стихии.
– Вот вам и конец высокой философии… – дослушав разговор мужчин, ухмыльнулся Семен.
– Обычные дела, – ответил Седельский, – от нас не убудет, в колхозе в две смены работают, а по ночам еще и комсомольцы помогают…
– Действительно, что ты зудишь… – пристыдила Селистратова Зинаида.
– А ты не слушай! – огрызнулся парень.
– Очень надо… – фыркнула девушка.
В этот момент в комнату вошел Гольдман.
– Все на месте… Замечательно! – обрадовался директор. – Сходите домой, переоденьтесь, и через полчаса я жду вас у правления колхоза, оттуда пойдем в Заречье.
– А что мы там будем делать?.. – поинтересовался Рыжик.
– Собирать разбросанный ураганом лен.
– Понятно… – вздохнул парень. – Разрешите идти?
– Можете быть свободны, – ответил директор и вышел из класса.
– Осчастливил… – недовольно буркнул Семен.
Ребята взяли школьные сумки и поспешили домой, для сборов оставалось совсем мало времени…
ГЛАВА 18
ЕЩЕ ИЗДАЛИ ПАНТЮШИН увидел односельчан, толпившихся у крыльца правления колхоза. По шуму и возгласам, доносившимся до слуха мужчины, он догадался, что люди чем-то серьезно обеспокоены. Подойдя ближе, старый охотник убедился, что его подозрения не беспочвенны.
– Здорово, мужики! – поздоровался Михаил. – Председатель у себя?
– Где ж ему быть?.. Слышишь – указания дает, – ответил Федор Селистратов, протягивая Пантюшину руку для приветствия.
Кондратий Кудрешов, куривший под окном конторы самокрутку, кивнул Пантюшину и, откашлявшись, произнес:
– Тебе, я гляжу, тоже дома не сидится…
– Усидишь тут, ночью такое светопреставление было – до утра глаз не сомкнул. Какой ураган был! Я такого на своем веку не припомню…
– Никто из старожилов такого ненастья не помнит, – вынув «козью ножку» изо рта, заметил Антон Сивоха.
Дверь здания правления колхоза открылась, и на крыльцо, убитая горем, вышла Дарья Круглова. Женщина обхватила голову руками и во весь голос запричитала:
– Что же это, люди добрые, делается? Как это называется, когда честных граждан лишают нажитого добра…
– Никто тебя, Дарья, ничего не лишает, – выйдя на крыльцо вслед за женщиной, произнес Дубов. – Не ты одна в эту ночь пострадала, у нас кого ни возьми – сплошь утраты да разорение…
– О чем это она? – поинтересовался у Антона старый охотник.
– Шут ее знает, – пожал плечами мужчина. – Слышал – сказывала, что хорек у нее этой ночью всех кур погрыз, а ураган разворотил бревенчатый сруб, который был сделан вокруг колодца, и засадил внутрь стог сена.
– Вон оно что… – кивнул Пантюшин.
– А я, мужики, думаю, что не хорек это был, а ласка… – высказал предположение Федор.
– Нет, – возразил Пантюшин. – Это не ласка. Этот зверь кур потрошить не будет. Вот если молоко у коровы пропадет – тут совсем другое дело. Она не прочь молочком полакомиться…
– А может, это куница? – задумчиво произнес Федор. – Я их в этом году летом видел… Ох, и красивый же зверь! К тому ж еще хитрый…
– Красивый-то он – красивый, да только ласковый, как волк сивый… – ухмыльнулся Сивоха. – В прошлом году у Митрофана Брагина куница за ночь такого натворила – всех кур передавила. Открыла Глафира утром курятник, а там как на Куликовом поле…
– Надо же, – покачал головой Пантюшин. – Работает человек, работает, а какая-то зверюга придет и пустит труды человека под хвост…
Мужики переглянулись. В деревне была известна хозяйская струнка старого охотника и то, какое большое, требующее неустанного труда хозяйство он держал, невзирая на свой преклонный возраст. Не раз сельчане подтрунивали над мужчиной по поводу того, что на тот свет ему всего добра не забрать, но Пантюшин пропускал мимо ушей шутки односельчан и оставался верен своим принципам.
– Нет, мужики, это мог сделать только хорек, – поразмыслив, высказал новую версию Федор. – По описанной Дарьей картине можно утверждать, что это был именно он, и, может, не один, а целый выводок, потому как только хорек головы курам отгрызает.
– Да зверь он, вроде, и не крупный, а беды натворить может, – согласился Антон. – Главное, извести его трудно… Отец сказывал, что капканом эту тварь не взять – хитрый, зараза… Лакомство из капкана съест, а сам уйдет. Говорил, что для того, чтобы отвадить его от жилья, надо найти гнездо и разорить его – иначе с ним не справиться…
– Так гнездо еще найти надо! Хорек – зверь умный, знает, где его схоронить… – ухмыльнулся Федор.
Дубов выслушал рассуждения односельчан и произнес:
– Как вам только махорка глаза не выела?.. А ну, кончайте перекур!..
Дарья в растерянности посмотрела на председателя и, схватив его за запястье, запричитала:
– А как же я? Меня ураган жилы жизни лишил… Живем на хуторе, рядом – ни реки, ни ручейка, ни озера…
Дубов высвободил свою руку, потер покрасневшее запястье и, покачав головой, произнес:
– Ну и хватка у тебя, Дарья…
– А мне, товарищ председатель, хлипкой быть нельзя, – с вызовом заявила женщина. – Я сама и землю пашу, и траву кошу, и сено на себе ношу… Мне расслабляться нельзя, муж мой погиб в Гражданскую войну, я одна детей воспитывала, – на глазах Дарьи выступили слезы.
Мужчины почувствовали себя неловко. Каждый укорял себя за черствость и невнимание по отношению к женщине. В памяти сельчан всплыл образ веселого, работящего, преданного делу революции Василия Круглова, геройски погибшего в 1920-ом году. «Что это я с ней так?» – смутился Дубов.
– Ты вот что… – произнес мужчина. – Ступай домой, приводи все в порядок, а я распоряжусь, чтоб вам подвезли бочку с водой…
Женщина вытерла концом платка слезы и с благодарностью посмотрела на председателя.
– Прости меня, Петр Иванович, не знаю, что на меня нашло… Даже когда муж погиб – не плакала, бабы уговаривали – поплачь, легче станет, а я не могла… Душа зашлась от боли, словно камень в груди застрял, не знала, как жить, где найти силы, чтоб пережить свалившееся на меня горе…
Дарья тяжело вздохнула, промокнула концом измятого платка слезы и добавила:
– Тогда выдержала, а теперь растерялась… Хлев да изгородь мои сыновья отремонтируют, а что с колодцем делать – ума не приложу. Он был дорог мне как память о Василии. Где теперь воду брать? Ума не приложу…
Женщина спустилась с крыльца и, понурив голову, пошла на хутор. Плечи ее осунулись, а платок, словно флаг, призывно трепетал на ветру. «Бедная женщина, – глядя односельчанке вслед, подумал Пантюшин, – сколько лет прошло, а она все по своему Василию тоскует, сколько женихов к ней сваталось – всем отказала».
– Вот что, председатель, – произнес мужчина, – коль такое дело – предлагаю свою помощь…
– Слушаю тебя, Терентьич… – оживился Дубов.
– Думаю, надо сходить на хутор и разобраться, что к чему…
Председатель прямо просиял.
– Вот ты бы и сходил… Лучше тебя никто в этом деле не понимает.
Пантюшин был известен в округе как специалист по обнаружению подземных водных жил и рытью колодцев – в этом ему не было равных. Когда сельчанам требовалось определить место рытья колодца, все обращались за помощью к старому охотнику. Люди считали, что старик обладает редким даром.
– Разобраться – еще полбеды… – задумчиво произнес Пантюшин. – Разберусь, а дальше что? Стар я колодцы рыть…
– Ты сначала сходи, посмотри, что да как, а потом мы с тобой потолкуем… – ответил Дубов.
– Что ж это получается, вроде как в разведку сходить? – усмехнулся старик.
– А хоть бы и так…
– Ты, Петр Иванович, власть – тебе видней… – ответил Пантюшин. – Ну так я схожу за инструментом…
– Давай, видишь – всех людей в колхозе задействовали, даже стариками не брезгуем. Ситуация такая…
Председатель проводил старика взглядом и, обращаясь к собравшимся мужчинам, скомандовал:
– Пошли! Не то мы тут до вечера просидим… Вот едрен корень, чуть не забыл…
Дубов открыл дверь конторы и крикнул:
– Епифан! Слышишь?..
– Ты меня звал?.. – выйдя на крыльцо, спросил счетовод.
– Вот что – сходи на конюшню и распорядись, чтоб выделили лошадь с подводой. Пусть возьмут бочку, наберут в реке воды, наполнят бидоны колодезной водой и отвезут…
– Куда? – поинтересовался счетовод.
– На хутор Кругловым. Если дома сыновей не будет, пусть мужики помогут хозяйке перелить воду в деревянные бочки… Остаешься здесь за главного, где меня искать – знаешь…
– Не волнуйся, Петр Иванович, сделаю, как сказал, – заверил счетовод и скрылся в глубине дома.
Мужики плотной стеной обступили Дубова и, шлепая по дорожной грязи кирзовыми сапогами, отправились на работу.
ГЛАВА 19
ПОКИНУВ КОНТОРУ, Михаил Пантюшин приступил к выполнению ответственного задания. Сначала он решил сходить домой и взять «рабочий инструмент», но, немного поразмыслив, направился к реке, где среди зарослей прибрежного кустарника росли вековые ивы. После ночного урагана трава вдоль берега реки была усыпана обломками веток кустарников и деревьев. Старый охотник присмотрелся к лежащему под ногами бурелому, нашел подходящую ветку ивы, поднял ее с земли и внимательно осмотрел со всех сторон, затем достал из голенища кирзового сапога охотничий нож и вырезал из ветки рогатину. Она представляла собой раздвоенную ветку ивы, укороченную с трех концов… Убедившись, что «инструмент» подходит для предстоящего дела, старик вложил нож в чехол, сунул в сапог и направился на хутор Кругловых. Дорогой он невольно предался воспоминаниям. Вспомнил Гражданскую войну и то, как он в качестве штатного прутоискателя отвечал за обеспечение бойцов Красной Армии питьевой водой. Во время долгих переходов и боевых действий в условиях полупустыни наличие источника питьевой воды обуславливало успех военной кампании. Однажды редкий природный дар чуть его не погубил… Преследуя вражескую банду, отряд красноармейцев изрядно вымотался, людям и коням требовался отдых. Водный резерв отряда находился практически на нуле, требовалось срочно пополнить запасы воды. До ближайших колодцев было далеко, по прибытии на место выяснилось, что в одном из них нет воды, а другой – кем-то засыпан… Для утоления жажды и восполнения жизненных сил бойцам Красной Армии срочно требовалась вода. Командир отряда вызвал к себе Пантюшина, дал приказ провести разведку на местности и во что бы то ни стало найти источник. Исполняя приказ командира, Михаил с помощью прута в руках исследовал пересохшую землю и нашел несколько зон, где, по его мнению, под толщей песчаного грунта могла находиться вода. Прутоискатель сообщил об этом командиру, который дал приказ красноармейцам копать колодец в указанном месте. Изможденные жарой и жаждой бойцы приступили к рытью колодца. Копали попеременно, сменяя друг друга, но воды все не было… Нервы бойцов отряда были напряжены до предела. Командир был вне себя от гнева… Ситуация в любую минуту грозила выйти из-под контроля, среди бойцов участились случаи обмороков и психических срывов, мог разразиться бунт. В один из моментов после очередного заверения Пантюшина в том, что вода скоро появится, нервы командира не выдержали, и он, выхватив из кобуры именной револьвер, стал размахивать им перед Михаилом и обвинять в саботаже, умышленном вредительстве и предательстве Родины. Угрозы не испугали прутоискателя, он объяснял, что ошибка могла состоять в том, что при копке колодца его указания красноармейцами выполнялись неточно – они либо не дошли до указанного уровня, либо прокопали в стороне.