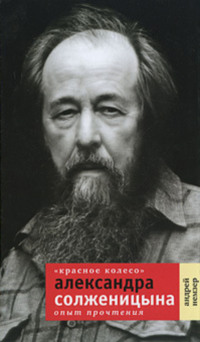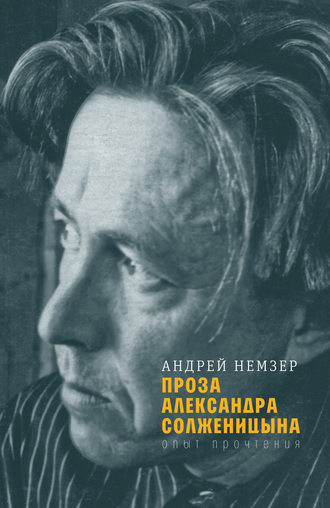
Полная версия
Проза Александра Солженицына
Сближение солженицынской Матрёны не только с ее тезкой[46], но и с Дарьей соотносится с возникающей в воображении Игнатьича (ср. видение Дарьи) картиной последних счастливых дней нынешней одинокой старухи: «…и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах» (133). Но ведь только что-то подобное этой некрасовской картине и могло быть запечатлено на «урожайном» плакате. Даже если изображены там не молодые колхозники (идеологически правильные заместители по-разному утративших свою счастливую стать Фаддея и Матрёны), а еще более правильные механизмы (при которых не споешь), сельское торжество остается сельским торжеством, а яркие краски рублевых плакатов воспроизводят (пусть вульгарно) великолепное цветение истинной крестьянской жизни (той, что оборвалась в июле четырнадцатого). Сходным образом «грубая плакатная красавица» заменяет Матрёну, какой она могла (должна была) быть. Здесь одинаковы важны и пародийность, и двойничество как таковое.
Понятно, что, описывая книжный плакат в Матрёниной избе, Солженицын саркастически откликается на просветительские грезы Некрасова и других народных заступников. Книги Белинского, Гоголя и поставленного в ряд с ними официального борзописца присутствуют в доме Матрёны как бессмысленные детали призванной украсить беспросветную жизнь картинки, а их прообразы не сделали крестьян свободными и счастливыми. Вдумчивый истолкователь рассказа видит в книжном плакате страшный символ: «…“советское” (читай – лживое) проникло внутрь Матрёниного дома»[47]. Проблема, однако, в том, что пошлые картинки не являются советским изобретением, а Некрасов, наивно мечтавший заменить «Белинским и Гоголем» аляповатые настенные украшения и такого же рода книжки, в то же время признавал их светлую роль в крестьянском бытии. Если во второй главе первой части «Кому на Руси жить хорошо» о лубочных картинках поэт говорит с презрением (а об их покупателях, мужиках, – с печалью), то в главе третьей («Пьяная ночь») он вынужден изменить интонацию. Накупив сыну картиночек, Яким Нагой «сам не меньше мальчика / Любил на них глядеть». Когда вспыхнул пожар, мужик, позабыв о накопленном за всю жизнь капитале (тридцати пяти серебряных рублях): «Скорей бы взять целковые, / А он сперва картиночки / Стал со стены срывать; / Жена его тем временем / С иконами возилася, / А тут изба и рухнула – / Так оплошал Яким! / Слились в комок целковики, / За тот комок дают ему / Одиннадцать рублей… / «Ой брат Яким, недешево / Картинки обошлись! / Зато и в избу новую / Повесил их небось?» // – Повесил – есть и новые, – / Сказал Яким – и смолк»[48].
Солженицын, безусловно, помнил и этот «картиночный» эпизод – он (с легким изменением) цитируется в третьей главке рассказа, когда избу готовят к прощально-поминальной церемонии. «И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), – фикусы вынесли из избы ‹…› Сняли со стены праздные плакаты» (142). Для интеллигентного читателя фикус – такой же символ дешевой безвкусицы (мещанства), как и аляповатые картинки. Матрёна относилась к ним иначе. И это не знак ее дурного вкуса, бескультурья (об эстетической чуткости Матрёны говорится в словно бы необязательной музыкальной концовке первой главки) – это то же, что у Якима Нагого, инстинктивное стремление к красоте, пусть, с точки зрения читателя и даже рассказчика, ложной. Когда удрученному смертью Матрёны Игнатьичу кажется, что портрет по-гоголевски зловеще оживает («Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась» (141)), мы имеем дело с его реакцией – реакцией человека книжной (господской) культуры. Матрёна фальши и зла в ярко намалеванной красавице не видела (как и Игнатьич – покуда Матрёна была жива).
Принять миропонимание Матрёны полностью Игнатьич (и стоящий за ним автор) не может. Как не могли, искренне и глубоко сострадая крестьянину, видя в нем носителя высоких ценностей, признавая его духовную сложность, вполне отождествиться с ним ни Тургенев, ни Некрасов, ни Толстой (разве что в упрощающих интерпретациях, включая ленинскую). Матрёна – вопреки Р. Л. Джексону – не «русская икона», а человек со своей судьбой и своим характером. Праведность ее (так поздно открывшаяся рассказчику) не безгрешность и не поведенческая образцовость.
Потому и имя героини рассказа двоится – в точном соответствии с народной традицией. Исходно высокое, римско-материнское, имя это может наделяться иной семантикой – игровой, иронической, даже чуть солоноватой, хоть и добродушно окрашенной (матрёшка, ядрёна Матрёна, тётя Мотя). Таковы бедные, но щедрые (похоже – бессемейные и веселые) три Матрёны из песни солдата («Пир на весь мир»): «Только трех Матрён / Да Луку с Петром / Помяну добром. / У Луки с Петром / Табачку нюхнем, / А у трех Матрён / Провиант найдем. // У первой Матрёны / Груздочки ядрены, / Матрёна вторая / Несет каравая, / У третьей водицы попью из ковша: / Вода ключевая, а мера – душа!»[49]. Три Матрёны являют собой тип крестьянки, резко отличный от их тезки Тимофеевны и сходной с ней Дарьи, о которой сказано: «Она улыбается редко… / Ей некогда лясы точить, / У ней не решится соседка / Ухвата, горшка попросить; // Не жалок ей нищий убогий – / Вольно ж без работы гулять»[50]. Солженицынская Матрёна похожа и на эпических героинь Некрасова (такой она была задумана), и на трех бабенок (старушек? молодок?), что привечают бедолагу-солдата (а также пушкинских сватов и много кого еще); ср.: «Я мирился с этим (бедной деревенской едой. – А. Н.) ‹…› Мне дороже была эта улыбка её кругловатого (матрешечного. – А. Н.) лица…» (123).
Такое смысловое двоение, разумеется, присутствует и в заголовке, причем семантическая многомерность простейшего словосочетания (образованное от женского имени притяжательное прилагательное + существительное) открывается по мере прочтения рассказа. При первом знакомстве с текстом название (предложенное Твардовским и принятое Солженицыным вместо первоначального «Не стоит село без праведника») смотрится таинственно (ср. загадочность «увертюры»): и имя героини, и ее двор возникнут почти тремя страницами позже (119). Рассказ расшифровывает заглавье, выявляя его парадоксальность: двор изначально не Матрёнин (она пришла сюда после замужества); он не стал Матрёниным, хотя к тому был предназначен (замужество оказалось ошибочным и злосчастным); Матрёне выпадает участь хозяйки того, что «строено было давно и добротно, на большую семью» (119)[51]; дом, в котором «многое было под одной связью» (119), разрывается на части; в конце рассказа уже нет не только Матрёны, но и ее двора: «Избу Матрёны до весны забили, и я переселился…», дом на время становится нежилым, а дальнейшая его судьба неведома. Тождество двоящихся, гибнущих, но живых в памяти писателя (и его читателей) Матрёны и ее двора подразумевает тождество Матрёны и России (матери), заставляющее вспомнить последнюю из песен героя поэмы о поисках русского счастливца, превращающихся в поиски русского праведника: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка Русь! // В рабстве спасенное / Сердце свободное – / Золото, золото / Сердце народное»[52].
В начале рассказа (фактографически точно и символично датированном летом 1956 года – временем прихода относительной свободы) Игнатьич надеется отыскать Россию – «если такая где-то была, жила» (116). Восходящая к традиционному сказочному зачину формула в предложенных реальных обстоятельствах если не жестко указывает, то намекает на сомнительность успеха. Географическая Россия, расположенная «по сю сторону Уральского хребта» (116), став теперь досягаемой, не равна России искомой (истинной)[53]. Красота являет себя только в единстве природы и поэтического слова. Появляющийся в «увертюре» словно бы случайно топоним Муром ассоциируется с песенными лесами[54], такими же, как упоминаемые ниже – некогда «дремучие, непрохожие», но теперь сведенные «под корень» (116, 117). Местечко Высокое Поле веселит душу идеальной гармонией фонетики, семантики и денотата (чарующего среднерусского пейзажа). Внутренняя речь присевшего в рощице рассказчика – «…только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше» – инструментована с ориентацией на знакомые строки (прежде всего – «Знакомым шумом шорох их вершин…»[55]), но стиховая певучесть разбивается о грубую реальность, выраженную образцово-суровой прозой: «Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города» (117).
Если в Высоком Поле поэзия противоречит реальности, то в Торфопродукте господствует вывернутая, отрицательная, гармония. Антимир рождает антиязык, неведомый Тургеневу. Некогда живой (перестоявший революцию) лес вытеснен лесом давно мертвым – торфом. Смысловая связка «вырубаемый лес – железная дорога» отсылает к наиболее мрачным страницам «Анны Карениной» – романа о переворотившейся жизни. Гротескный диалог официального объявления и двух выцарапанных «с меланхолическим остроумием» надписей, по сути, сводится к зловещему пророчеству, начертанному при входе в ад[56]. Торфопродукт с его дымом (фабричной трубы и паровозиков на узкоколейке), какофонией (свист паровозиков и угадываемая надрывающаяся радиола), серо-бурой окраской (торфяные плиты и брикеты), бараками (лагерные ассоциации), пьяными (блатарями, чертями), «подпыривающими» не только «друг друга» (117, 118) и есть ад в миниатюре[57]. Противопоставляется ему (как и другому аналогу ада – лагерю) не взыскуемая Россия (мечта), но недавно оставленное пространство ссылки, чужое, но сопряженное с вечностью: «А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод распахивался над головой» (118).
Это пространство – безлюдное, поднебесное, свободное от мирского шума (и обычных человеческих чувств) – сходно с тем, что предстает в последних стихах поэта-изгнанника: «Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит»; «И вот в пустыне я живу, / Как птицы, даром Божьей пищи; // Завет Предвечного храня, / Мне тварь покорна здесь земная; / И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя»[58]. «Я» предсмертной лермонтовской лирики не обретает покоя в пустыне изгнания («Что же мне так больно и так трудно…»; пророк почему-то вновь и вновь попадает в «шумный град»). Незадолго до стихов о ночной божественной пустыне были написаны стихи о пустыне (долине) в «полдневный жар», где место чаемого блаженного бытия меж смертью и жизнью занято «мертвым сном»[59]. Прохлада и зной лермонтовского Востока[60], простирающегося от Кавказа до Аравии («Спор»), взаимозаменяемы, ибо неразрывно связаны с меняющей обличья, то влекущей, то страшащей, но не знающей альтернативы смертью. Приязнь к земному бытию и «здешнее» (пусть недолгое) освобождение от тревоги и рефлексии связаны со «странною любовью» к отчизне – огромной, незнакомой, обрекающей странника на долгое одиночество, но вдруг сжимающейся в обыкновенную, обозримую и почти осязаемую деревню (или двор?) – с полным гумном и избой, покрытой соломой[61]. Этот «малый» мир «нутряной России» (России по-лермонтовски большой, а потому позволяющий «затесаться и затеряться» в ней) ищет солженицынский рассказчик.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Сколько возможно, тексты цитируются по этому изданию: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006 – … (на сегодня выпущен 21 том). Номера томов (римская цифра) и страниц (цифра арабская) даются в тексте, в скобках. В главах этой книги, посвященных рассказам, роману «В круге первом», повести «Раковый корпус», номера томов, в которых помещены эти тексты (соответственно I, II, III), опускаются (указываются только страницы). О системе отсылок в монографии о «Красном Колесе» см. в «Предварительных замечаниях» ко второй части книги. В цитатах сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации, о них см.: Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 524–539. Все шрифтовые выделения в цитатах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну. В иных – немногочисленных – случаях дается помета: «курсив мой».
2
Тщанием М. Г. Петровой подготовлено удивительное издание: Солженицын Александр. В Круге первом: Роман. М.: Наука, 2006 (серия «Литературные памятники»).
3
Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 8–9.
4
Цит. по: Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 15–16.
5
Рассказ Солженицына первоначально назывался «Щ-854». По настоянию редакции «Нового мира» были изменены название (совершенно в советских условиях невозможное) и жанровое определение («для весу»); новое заглавье автор внутренне принял, но об уступке с «повестью» сожалел (XXVIII, 26–27) Ахматова и Чуковская читали машинопись еще не опубликованного рассказа с «промежуточным» заголовком.
6
Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 512; о последовавшей вскоре встрече Ахматовой и Солженицына см.: Там же. С. 532–533; ср. также: Солженицын Александр. Анна Ахматова // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2016. <Вып.> 5. С. 7–16.
7
Цит. по: Сараскина Л. И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 498.
8
Из статьи Н. Сергованцева «Трагедия одиночества и “сплошной быт”» («Октябрь». 1963. № 4); цит. по: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 129, 132.
9
Ясное представление о «Борьбе за “Ивана Денисовича” (1962–1965)» дает соответствующий раздел указанной выше книги. См. также: Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2014. С. 63–123. Весьма впечатляют и резко неприязненные отклики на рассказ «простых читателей», в том числе – без сомнения искренние; см.: «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей. 1962–1964. М.: Русский путь, 2012. Составитель этого интереснейшего издания Г. А. Тюрина указывает: «Количественные пропорции положительных и отрицательных отзывов выдержаны (в сборнике. – А. Н.) в соответствии с содержимым единиц хранения в архивных фондах».
10
То же, на наш взгляд, должно сказать и об иных сочинениях Солженицына, будь то родившиеся в 1960-х рассказы и повесть «Раковый корпус» или казавшийся писателю на исходе 1950-х законченным роман «В круге первом».
11
12 декабря 1961 в дневнике Твардовского появляется запись: «Сильнейшее впечатление последних дней – рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». – Твардовский Александр. Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1. С. 68; «А. Рязанский» – псевдоним, значившийся в рукописи; фамилию писателя Твардовский расслышал неточно.
12
Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1997. Т. 3. С. 25.
13
Сопоставление силы «общественного резонанса» просто невозможно. В XIX веке не было ни чудовищных катастроф, что обрушились на Россию в первой половине XX столетия, ни огромной читательской аудитории.
14
Эти сочинения (как и лирические стихотворения 1946–1952 гг.) см.: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М., 2016. Т. 18 (= Раннее).
15
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 2. С. 424.
16
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 21.
17
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.
18
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.
19
Это яркий (но далеко не единственный в рассказе!) знак идущей холодной войны, превращение которой в «горячую» не удивило бы героев Солженицына.
20
Работа над «Случаем…» шла в то время, когда набирался 11-й номер «Нового мира». По слову автора, рассказ писался «прямо для журнала, в первый раз в жизни» (XXVIII, 46). Уже 17 ноября редактор получил новую вещь, а на следующий день обсуждал ее с автором; см.: Твардовский Александр. Новомирский дневник. Т. 1. С. 127, 131. Замена в заголовке реального топонима придуманным «созвучным» была произведена для отвода незапланированных (не нужных автору!) ассоциаций с фамилией одного из самых одиозных советских литераторов, ярого сталиниста и противника «Нового мира», тогдашнего главного редактора журнала «Октябрь». Вот и пришлось Солженицыну временно обратить обычную домашнюю птицу (кочет – петух) в хищную.
21
Закономерно, что в рассказ из оставленной повести перенесен ряд сильных деталей, характеризующих как психологическое состояние героев (Нержина и Зотова), так и историческую атмосферу. Важные параллели отмечены в комментариях В. В. Радзишевского к тому XVIII Собрания сочинений.
22
Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 97.
23
Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: Искусство – СПб, 2003. С. 11. («Не-мемуары» диктовались уже смертельно больным ученым в декабре 1992 – марте 1993 гг.) Нелишним кажется здесь сообщить, что 29 февраля 1962 г. «доктор филолог. наук, проф. Ю. Лотман, чл. КПСС с 1942 г.» направил в Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства глубокий и проникновенный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича», заканчивающийся утверждением: «…присуждение повести А. Солженицына Ленинской премии будет глубоко верным и в литературном, и в политическом отношении шагом». – Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. <Вып.> 1. С. 326–328.
24
Цит. по: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 107. Разрядка дана автором книги.
25
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 7.
26
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 16–17.
27
Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172.
28
Подробнее см. далее в главе II этой книги («Русская словесность на Матрёнином дворе»).
29
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 1. С. 24–25.
30
Фрагмент письма Твардовскому см.: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 139.
31
Замена одной нейтральной фамилии на другую была, видимо, внутренне необходима автору (читатели некомментированных изданий рассказа ее просто не могут воспринять), несомненно поэтически достраивающему жизненный сюжет. Реальная Матрёна могла рассказать Солженицыну о своей первой любви, обусловившей ее особые отношения с Фаддеем, но фантастическая атмосфера, окутывающая исповедь Матрёны, возникающий в ней символический (и много раз отзывающийся в других фрагментах текста) мотив топора, размышления о ходе времени и обусловленном им психологическом состоянии героини, решившейся на замужество, безусловно, домыслены Игнатьичем (литературным двойником автора). О значении поэтического достраивания реальности у Солженицына см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе “В круге первом”».
32
Это зачин второй главки – Игнатьич прожил в Тальнове примерно пять месяцев (крещенский эпизод описан ранее). Конструкция «а я тоже…», формально указывая на симметрию в отношениях персонажей, на самом деле свидетельствует об ином. Матрёна не тревожит Игнатьича расспросами, потому что печальное его прошлое угадывает сама; Игнатьич, кое-что зная о былом Матрёны, пока не склонен размышлять о ее судьбе и личности.
33
Ср. после рассказа о неукротимой жадности Фаддея: «Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один» (145). «Такой не один», однако, не означает, что других не было вовсе.
34
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянских культур, 2009. Т. 4. С. 170.
35
Сперва читатель узнает об одиночестве рассказчика («никто меня не ждал и не звал») и о том, что он «задержался с возвратом (в Россию. – А. Н.) годиков на десять» (116), – названный срок отсутствия персонажа в сочетании с точной датировкой действия («летом 1956 года») указывает не только на лагерь (тюрьму), но и на войну, с которой возвращались в 1945–1947 гг. (отсюда неопределенность временной конструкции). Позже о военном и лагерном опыте говорится определенно, но не акцентировано, словно бы к случаю: «…ещё лагерная телогрейка на ногах…»; «Ел я дважды в сутки, как на фронте»; «И когда невскоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме…» (важна не столько информация об Игнатьиче, сколько понимающая реакция Матрёны); «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы»; «Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях» (122; 123; 130; 137; 138). Подчеркну, что речь здесь идет о собственно тексте рассказа, изначально писавшегося в стол. Контекст публикации, последовавшей через два месяца после триумфа «Одного дня Ивана Денисовича», несомненно, придал автобиографическим мотивам большую определенность. О жизненном пути прежде никому неизвестного автора лагерной повести читатель был проинформирован заметкой П. Косолапова «Имя новое в нашей литературе» («Московский комсомолец». 1962. 28 ноября); см.: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 39–40.
36
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 547 (перевод Б. А. Ерхова).
37
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.
38
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 5. С. 35. Реминисценция отмечена: Лекманов О. А. «От железной дороге подале, к озерам…» (о том, как устроено пространство в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор») // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. С. 331; ср. также комментарии В. В. Радзишевского (598–599).
39
Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172. Немаловажно, что, начиная с прижизненной публикации «Стихотворений в прозе» (1882), «Русский язык» замыкает предназначенный автором для печати цикл, следуя прямо за трагическо-скептической «Молитвой».