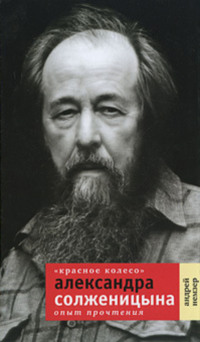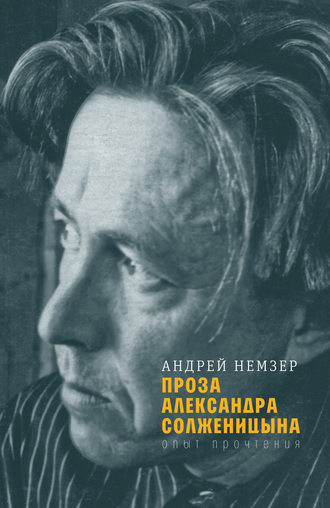
Полная версия
Проза Александра Солженицына
Напомним финал Нобелевской лекции Солженицына:
…в борьбе с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! – зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, – но только не против искусства.
А едва развеяна будет ложь, – отвратительно откроется нагота насилия – и насилие дряхлое падёт.
Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, – но выйти на бой!
В русском языке излюблены пословицы о правде.
Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:
ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.
Вот на таком мнимо-фантастическом сохранении масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира[29].
Призыв этот обращен не только к собратьям по цеху, но и к нам, к читателям. Наш долг – расслышать всю правду – как это случилось больше полувека назад, когда были напечатаны «Один день Ивана Денисовича» и «Два рассказа», когда с нами (и с теми, кто раньше или позже ушел, и с теми, кто тогда еще не родился!) заговорил, в нашу жизнь вошел великий писатель – Александр Солженицын.
ГЛАВА II. Русская словесность на Матрёнином дворе
В августе 1963 года, выступая на сессии Руководящего совета Европейского сообщества писателей, А. Т. Твардовский заметил: «душевный мир» героини рассказа «Матрёнин двор» «наделен таким качеством, что мы с ней беседуем, как с Анной Карениной». Суждение это глубоко тронуло Солженицына, вскоре написавшего Твардовскому: «Нечего и говорить, что абзац Вашей речи, относящийся к Матрёне, много для меня значит. Вы указали на самую суть – на женщину любящую и страдающую, тогда как вся критика рыскала всё время поверху, сравнивая тальновский колхоз и соседние»[30]. Разумеется, Твардовский не намеревался отменить или приглушить социальное звучание солженицынского рассказа, но стремился выявить (как видим, в полном согласии с автором) его глубинную суть, сложно соотнесенную как с общей трагедией русского XX века, так и с вечной проблематикой (в русской же огласовке). В этой связи сравнение Матрёны с Анной Карениной оказывалось не патетичным комплиментом автору, но точным указанием на смысловое ядро текста (истории «женщины любящей и страдающей») и включенность рассказа в большую литературную традицию. Не рискуя реконструировать в деталях ход мысли Твардовского, позволю себе предположить, что на аналогию Матрёна – Анна его навела не только тема злосчастной любви (ее сюжетные и психологические изводы у Толстого и Солженицына как раз не схожи), но и особая значимость проходящих сквозь оба текста «железнодорожных» мотивов, готовящих гибель героинь под колесами поезда.
Фактически достоверная история гибели Матрёны Захаровой, свидетелем которой был ее постоялец А. И. Солженицын, превращаясь в историю жизни, любви и смерти Матрёны Григорьевой[31], обретает отчетливо символические черты. В немалой мере тому споспешествует нарративная структура текста: память о незамеченной праведнице дано сохранить только повествователю, исключительность позиции которого резко заявлена еще до начала собственно истории. Первой (означенной цифрой 1) главке предшествует короткая «увертюра» – совершенно загадочная при первом чтении (ясно из нее немного – «на сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что ведет к Мурому и Казани», произошло какое-то незаурядное, скорее всего – страшное, событие) и сигнализирующая о своей значимости композиционным (графическим) строем. Инициальный фрагмент состоит из четырех последовательно сжимающихся абзацев: в первом (обрисовка странной железнодорожной ситуации и недоуменной реакции на нее случайных свидетелей, пассажиров замедляющих ход поездов) – пять строк; во втором (разрешение ситуации – ясно, что вновь набирающим скорость поездам ныне ничего не грозит) – две (два предложения, девять слов); в третьем (намек на разгадку) – одна (сложноподчиненное предложение, с изъяснительным придаточным, которое, однако, не изъясняет, но усугубляет таинственность; восемь слов); в четвертом – строка, равная неполному предложению из двух слов – сочинительного союза и личного местоимения (подлежащего):
Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
Да я.
(116)Так вводится тема особой связи рассказчика (о котором читатель пока ничего не знает) и какого-то, еще неведомого, происшествия, метонимически предваряющая тему особого отношения рассказчика к героине (еще не появившейся, но названной в заголовке). По мере движения рассказа тема эта постоянно усиливается:
Но я уже видел, что жребий мой был – поселиться в этой темноватой избе… (встреча, определившая не только ближайшее будущее рассказчика, но и самое рождение рассказа – А. Н.).
(119)Так привыкла Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. ‹…›
А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать[32].
(130)Так в тот вечер (после визита Фаддея и исповеди героини. – А. Н.) открылась мне Матрёна сполна.
(135)И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.
(147)Это – посмертное и последнее – открытие Матрёны (готовящее обобщающий пословичный финал рассказа) объясняет означенный последней строкой зачина исключительный характер памяти рассказчика. Хотя золовка погибшей праведницы отзывается о ней неприязненно, у нас нет оснований предполагать, что эти чувства разделяют все, кто знал Матрёну[33]. Напротив, в рассказе говорится сперва об искренних чувствах «второй» Матрёны, а затем – о еще большем горевании Киры: «И совсем уж не обрядно – простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матрёнина приёмная дочь» (143, 144), заметим, и прежде благодарно заботившаяся о второй матери. И надо обладать поистине барским высокомерием, чтобы поставить под сомнение переживания Маши, хотя та сразу после смерти подруги напоминает Игнатьичу о вязаночке, которую Матрёна прочила Таньке (Машиной дочери или внучке). Получается, что по крайней мере три женщины оплакивают ушедшую отнюдь не ритуально. Почему же рассказчик утверждает: помнили «это всё» (трагедию на переезде) только машинисты (впрочем, лишь «с добрых полгода после того» и по понятным – профессиональным – причинам) «да я»? Говорится здесь, конечно, не о достоинствах рассказчика, якобы возвышающегося над любившими Матрёну бабами, но об устройстве человеческой памяти. Тут уместно будет привести удивительные (хоть и не вошедшие в цитатный фонд) строки великого поэта:
Как нам, читатель, сказать: к сожаленью иль к счастью, что нашеГоре земное ненадолго? Здесь разумею я гореСердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,‹…›Есть, правда, много избранныхДуш на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой,Ярко горит, пока догорит; но она и для них ужВсе не та под конец, какою была при начале,Полная, чистая; много, много иного, чужогоМежду утратою нашей и нами уже протеснилось;Вот, наконец, и всю изменяемость здешнего в самойНашей печали мы видим… итак, скажу: к сожаленью,Наше горе земное ненадолго[34].По-настоящему сохранить память и об ушедшем, и о своей печали по ушедшему дано только художнику, запечатлевающему преходящее в неподвластных времени формах искусства. В нашем случае – в слове.
Рассказчик «Матрёнина двора» не просто свидетель последних месяцев жизни героини, посвященный в ее предысторию, но писатель. Все автобиографические мотивы вводятся в рассказ исподволь[35], но и в рамках избранной повествовательной стратегии писательство Игнатьича спрятано с особым тщанием (что, на мой взгляд, не ослабляет, но усиливает звучание этого мотива). Первый намек вмонтирован в тот – чуть обособленный – фрагмент бытоописательной части первой главки, что посвящен доставшимся Игнатьичу «соседям» – «Кроме Матрёны и меня жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы» (120). В этом контексте возникает уточняющее (с семантикой времени) придаточное предложение, посвященное бдениям Игнатьича: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, – редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой» (121). Глагол «заниматься» вроде бы указывает на профессиональную деятельность Игнатьича (школьному учителю естественно заниматься проверкой тетрадей, составлением контрольных, подготовкой к урокам), однако второе упоминание о занятиях резко меняет смысловой рисунок: «Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, – Матрёна вдруг из тёмного своего угла сказала…» (132. Курсив мой. – А. Н.). «Писать своё» может никак не преподаватель математики, но писатель. Очевидное мотивное родство (ночь и ночные звуки – подробнее об этом будет сказано ниже) и синтаксическое тождество (одинаковые по семантике придаточные, вводимые союзом «когда») двух фрагментов заставляет признать их смысловое единство. Не менее важно, что Игнатьич «писал своё» в тот самый вечер, когда ему суждено было узнать о судьбе Матрёны (то есть сделать первый шаг на пути к будущему рассказу). Кажется, сходно обстояло дело и в роковой для Матрёны день:
…За окнами уже совсем стемнело. Я тоже (бессознательное самоотождествление рассказчика с убежавшей «за всеми» Матрёной. – А. Н.) влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.
Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.
И ещё прошёл час. И ещё ‹…›
Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась.
(138)Игнатьич, несомненно, не спал – он придумал объяснение отсутствию Матрёны, обратил внимание на непривычную тишину и повышенную активность бегающих под обоями мышей, не включил (то есть сознательно не стал включать!) приёмник. От чего же он в таком случае очнулся? В странное забытье, позволившее не тревожиться о пропаже Матрёны, его должна была ввергнуть без помех идущая работа над «своим», но не проверка домашних заданий. Игнатьич «пишет своё», не зная, что в это время происходит то, что станет для него по-настоящему «своим», не отпускающим, требующим спасения от забвения – воплощения в слове. Этот парадокс сопряжен с постепенным приближением рассказчика к личности, судьбе, тайне Матрёны, с первой встречи ему полюбившейся, но долго не открывающейся вполне. Формально Игнатьича невозможно укорить как за равнодушие к Матрёне в ее последние часы, так и за запоздалое понимание ее сути, но для него самого эти ошибки крепко связаны и совокупно отзываются чувством вины. Потому и возникает в концовке рассказа местоимение первого лица, относящееся не только к тальновцам и проглядевшим других Матрён читателям, но и к рассказчику (в его обыденной ипостаси):
Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша.
(148)Таким образом финал дописанного (одолевшего, казалось бы, неизбежное забвение) рассказа перекликается с его зачином: поведать о русской праведнице (и тем самым сохранить ее праведность) дано только русскому писателю.
Отсюда неожиданная литературность рассказа, заявленная уже таинственной «увертюрой», строй и композиционная роль которой совершенно несхожи с начальными фрагментами других рассказов Солженицына конца 1950 – начала 1960-х гг. Читатель «Одного дня Ивана Денисовича» сразу же вводится в какое-то неведомое, но, без сомнения, страшное пространство: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака» (15). Никаких предисловий и подводок здесь быть не может, лагерные реалии возникают раньше, чем прямое указание на место действия, фамилию главного героя мы узнаем до того, как он как-то себя проявит. Тот же прием немедленного погружения в реальность (конкретные черты которой будут представлены позднее) употреблен в рассказах «Случай на станции Кочетовка» и «Для пользы дела», закономерно открывающихся репликами еще не названных персонажей: «Алё, это диспетчер?»; «…Ну, кто тут меня?.. Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела – здравствуйте, здравствуйте!» (159, 210). Отождествить Ивана Денисовича с автором «Одного дня…» мог только очень простодушный читатель. Читатель, сколь угодно изощренный (посвященный в тонкости литературной теории, прекрасно знающий о дистанции меж собственно автором и нарратором), должен был угадать в рассказчике «Матрёнина двора» писателя (насколько это в принципе возможно – близкого реальному автору). Писатель этот предстает законным наследником той великой литературы, что некогда открыла (как теперь Игнатьич – Матрёну) особую стать русского мира, русского человека и русской истории.
Путь Игнатьича к пониманию Матрёны не менее важен, чем открывающаяся в финале человеческая суть героини. Металитературность «Матрёнина двора» (кроме прочего, это рассказ о том, как складывался рассказ) глубоко укоренена в национальной литературной традиции (начиная с «Бедной Лизы», «Евгения Онегина» и «Мертвых душ»). Рассказываться такая история может только на том языке, что был – во всем своем разнообразии – сформирован традицией, но оказался в новой социальной реальности чужим, погребенным в прошлом, дозволенным в хрестоматиях, но ненужным для современной литературы. Солженицын сложным образом восстанавливает этот язык в правах – отсюда густота и значимость литературных реминисценций, по-разному корреспондирующих со своими источниками, явленных с разной мерой отчетливости (иные должны распознаваться читателем, иные – одаривать беглыми ассоциациями), но неотъемлемо входящих в поэтическую ткань рассказа. Некоторые отсылки к русской классике прежде не фиксировались, другие были отмечены исследователями, но получили неполные или неточные истолкования, что, на мой взгляд, связано с установкой на интерпретацию отдельных реминисценций, складывающихся у Солженицына в сложную систему, ориентированную на «целое» русской словесности.
Характерный пример находим в интересной работе американского слависта. Совершенно верно указав на значимость восклицания рассказчика «Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое» (117), исследователь делает сноску: «Тургенев, возможно, является величайшим стилистом русской прозы. Ссылка на Тургенева – единственного русского писателя, упомянутого в рассказе, – имеет, однако, более глубокий смысл. “Матрёнин двор” в определенных чертах – открытой форме, использовании повествователя-наблюдателя и косвенной критике социальных порядков – напоминает тургеневские рассказы из “Записок охотника”»[36]. Оставив в стороне оговорки (понятие «открытая форма» крайне неопределенно; отождествление позиций тургеневского и солженицынского рассказчика сомнительно; критика социальных порядков, кстати достаточно прямая, присуща всей русской дореволюционной деревенской прозе, от Григоровича до Бунина), укажу на два серьезных (и, на мой взгляд, взаимосвязанных) заблуждения автора. Во-первых, Тургенев не единственный упомянутый в рассказе писатель. Во-вторых, болезненно реагируя на уродливый неологизм, рассказчик напоминает читателю не столько о «Записках охотника» (отсылки к этой книге появятся в рассказе позже), сколько о другом, не менее хрестоматийном, сочинении их автора.
Первый пункт в известной мере опровергается самим Р. Л. Джексоном. Исследователь замечает, что «тусклое зеркало» похоже «на предмет из произведений Гоголя», тут же в сноске указывает реминисценцию «Шинели» (не давая ей, однако, какого-либо объяснения), сравнивает Матрёну с целой вереницей персонажей русской литературы XIX в., характеризуя «мотив железной дороги и несчастного случая на ней», утверждает, что здесь «Солженицын следует традиции Толстого и Достоевского», у которых «железная дорога служит символом капиталистического обезображивания русской жизни»[37]. Правда, в этих случаях (как и в ряде других, не отмеченных Р. Л. Джексоном) имена писателей не называются, однако две литераторских фамилии прямо введены в текст. Грубая плакатная красавица «постоянно протягивала мне Белинского, Панфёрова и еще стопу каких-то книг» (121. Курсив мой. – А. Н.). За именами канонизированного при советской власти критика и официозного прозаика, разрабатывавшего крестьянско-колхозную тематику, скрывается более значимое для рассказа имя поэта, писавшего: «Эх! эх! придет ли времечко ‹…› Когда мужик не Блюхера / И не милорда глупого – / Белинского и Гоголя / С базара понесет»[38]. Закурсивленный мной фрагмент солженицынского текста укладывается в две строки трехстопного ямба с мужским и дактилическим окончаниями – основной размер поэмы «Кому на Руси жить хорошо» – метрическая цитата поддерживает цитату тематическую, актуализирует собственно некрасовскую семантику бытовой детали, таким образом подготавливая появление других некрасовских реминисценций.
Примерно так же обстоит дело и с Тургеневым. Советскому («торфопродуктному») косноязычию противопоставлено не стилистическое мастерство Тургенева, но его мистически окрашенное (в известной мере – квазирелигиозное, заменяющее веру) отношение к русскому языку, увековеченное одноименным стихотворением в прозе. Напомню это тургеневское credo, хрестоматийная известность которого (по крайней мере – в пору «Матрёнина двора») не отменяет его смысловой сложности. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»[39]. Живое бытие русского языка для Тургенева не отменяет печального (подводящего к отчаянию) современного (начало 1880-х гг.) состояния России, но предполагает преодоление сегодняшних бед в будущем. Язык – залог величия народа, пребывающего отнюдь не в идеальном положении. При этом апология народного языка строится с опорой на великие литературные свершения. Определения, которыми наделен русский язык, восходят к «Песни о вещем Олеге», где они характеризуют боговдохновенное слово кудесника: «Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен; / Правдив и свободен их вещий язык / И с волей небесною дружен»[40] (эпитет «могучий» Тургенев отбирает у властителя). Мистическая связь «язык (слово) – народ (страна)» возникает в концовке главы V первого тома «Мертвых душ»: «…но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, как метко сказанное русское слово»[41]. Гимн русскому слову (стимулированный непристойным речением встретившегося Чичикову мужика) предваряет центральную композиционно и поворотную в смысловой перспективе главу VI (история «умершего», но способного воскреснуть Плюшкина), за которой (зачин главы VII) следует авторское размышление о писательских судьбах, завершающееся пророчеством о новом слове (= новой – преображенной – реальности).
Тургеневский русский язык есть одновременно язык народа и язык величайших национальных писателей, язык всей русской словесности, строящий обыденную речь, фольклор, высокую литературу. Такое понимание языка, восходящее к немецкой философско-литературной традиции конца XVIII – начала XIX вв., подразумевает сложное взаимопроникновение национального и универсального начал. В «своем» открывается «всеобщее», что позволяет увидеть неестественность обычно воспринимаемого как норма социокультурного антагонизма, осознать русскую культуру в ее надсословном единстве. Эта установка обнаруживается у Тургенева уже в «Записках охотника», где рассказчику равно важны истории дворянские и крестьянские: первые оказываются при зримом универсализме обусловленными русским контекстом («Гамлет Щигровского уезда»), вторые при столь же очевидных русскости и социальной детерминированности – общечеловеческими (хотя Тургенев и вычеркнул из первоначального текста «Хоря и Калиныча» сравнение героев с Гёте и Шиллером[42], прикровенная аналогия остается работающей; ср. также явно байронический характер Бирюка, романтический подтекст «Певцов» или «Бежина луга»).
Солженицын закономерно маркирует отсылки к Тургеневу и Некрасову. Именно с этими писателями традиционно (и вполне обоснованно) связывается открытие личностного начала (и соответственно права на сложные чувства и трагическую судьбу) в человеке из народа (прежде всего – крестьянине). Если универсализм Тургенева подразумевает синтез жизненных наблюдений и литературных традиций (европейской и русской), то у Некрасова место западной составляющей занимает национальный фольклор, сложно соотнесенный с господской литературой (всего нагляднее – в «Кому на Руси жить хорошо», но отнюдь не только там). Цитируя «Русский язык» и «Сельскую ярмонку», Солженицын сигнализирует читателю о менее явном присутствии в рассказе не только других сочинений Тургенева и Некрасова, но и иных русских фольклорных и литературных текстов – столь же известных, привычных, вошедших в культурно-языковую память. При этом отсылки к народной словесности и классике постоянно перемежаются, а один и тот же элемент солженицынского рассказа зачастую может (должен) прочитываться трояко – фактографически, фольклорно и литературно. С этой тройственностью мы сталкиваемся уже в заголовке.
Мы не знаем, как нарек бы Солженицын героиню рассказа, если б его мильцевская хозяйка звалась не Матрёной, а, скажем, Евдокией, Фёклой, Маврой или Анастасией. Факт тот, что сохраненное в рассказе имя прототипа для русского читателя – имя, прежде всего, некрасовское. Решив отыскать счастливицу, мужики слышат: «У нас такой не водится, / А есть в селе Клину: / Корова холмогорская, / Не баба! доброумнее/ И глаже – бабы нет. / Спросите вы Корчагину / Матрёну Тимофееву…». Героиня «Крестьянки» (название посвященного ей законченного повествования внутри «Кому на Руси жить хорошо», несомненно, символично) в изрядной мере соответствует и своей славе, и своему имени (в его начальном, римском значении): «Матрёна Тимофеевна / Осанистая женщина, / Широкая и плотная, / Лет тридцати осьми. / Красива, волос с проседью, / Глаза большие строгие, / Ресницы богатейшие, / Сурова и смугла». Подробно поведав о доставшихся ей истинном счастье и таком же горе, Матрёна говорит: «Что дальше? Домом правлю я, / Ращу детей… На радость ли? / Вам тоже надо знать. / Пять сыновей! Крестьянские порядки нескончаемы, / Уж взяли одного», вновь вспоминает все выпавшие ей страшные испытания и пересказывает притчу о навсегда затерянных «ключах от счастья женского»[43]. Любящая и любимая мужем, сумевшая спасти его от солдатчины, многодетная некрасовская Матрёна, разумеется, несопоставимо счастливее своей одинокой тезки, но ее судьба так же искорежена крепостным правом (и его следствиями), как судьба солженицынской героини – Первой мировой войной и дальнейшей страшной историей русского XX века. Обе они были сотворены для другой – лучшей – жизни.
Отсветы некрасовской поэзии (точнее – трагической апологии русской крестьянки) вспыхивают в рассказе не один раз. Упомянутое выше замечание о «грубой плакатной красавице» подготовлено первым описанием интерьера избы «с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае» (119–120). Некрасовская семантика этой детали раскрывается не сразу, но позднее – по введении цитаты (121). Если плакат о книжной торговле представлен достаточно конкретно, то об изобразительном ряде второго («урожайного») формально не сказано ничего. Между тем некрасовский подтекст первого плаката метонимически переходит ко второму, что обнаруживается, однако, несколько позднее. Сбор урожая – кульминация крестьянского года. В «Крестьянке» мужики встречаются с исполненной достоинства рачительной хозяйкой Матрёной Тимофеевной в пору жатвы. Завершение жатвы возникает в предсмертном видении другой некрасовской героини – Дарьи («Мороз, Красный нос»): «В сверкающий иней одета / Стоит, холодеет она, / И снится ей жаркое лето – / Не вся еще рожь свезена». Это высший миг былого (невозможного после смерти мужа, но когда-то – сущего) счастья крестьянки, красота, сила и суровое достоинство которой описаны в до дыр зацитированной главе IV первой части поэмы: «Есть женщины в русских селеньях…». Самая известная строка этой величальной главки – «Коня на скаку остановит»[44] – развернута в эпизод «Матрёнина двора»: «Конь был военный у нас, Волчок, здоровый ‹…› он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила» (127). Этот случай вспоминает, рассказывая о гибели Матрёны, Маша: «Что она там (на переезде, при обрыве троса. – А. Н.) подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то её чуть в озеро не сшиб, под прорубь» (140). Последние действия Матрёны показывают, что отнюдь не так сильны были ее устойчивые страхи, упомянутые вслед за историей об укрощении коня: «Боялась она пожара, боялась молоньи, а больше всего почему-то – поезда» (128), что в следующем далее описании Матрёны напоминает сказочное (угадывается – огнедышащее) чудовище. Если в первой главке двустрочная некрасовская формула по отношению к Матрёне скорректирована, то в третьей она полностью восстанавливается в правах: смысловая сцепка «поезд – огонь» заставляет отождествить Матрёну на переезде с ее литературным прообразом, о котором сказано: «В горящую избу войдет». «Конскому» эпизоду предшествует рассказ о незаурядной физической силе молодой Матрёны (частично, несмотря на недуги, сохранившейся и в старости): «Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала»; ср. у Некрасова: «Я видывал, как она косит: / Что взмах – то готова копна»[45].