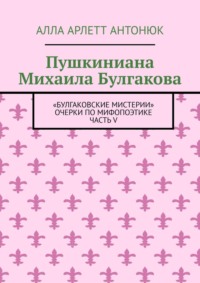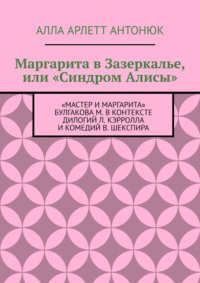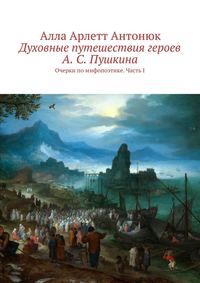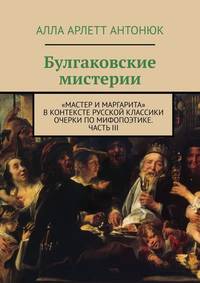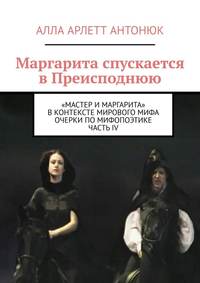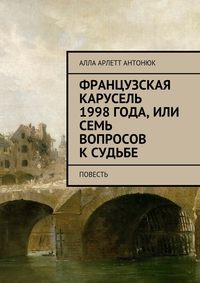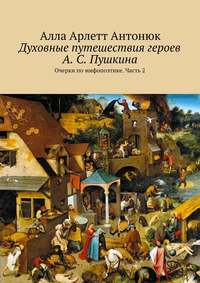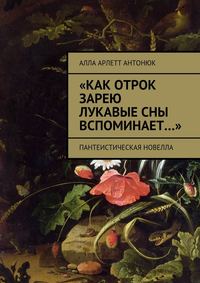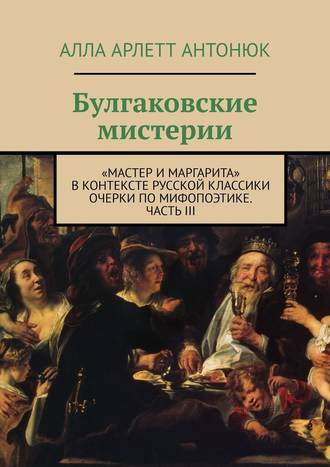
Полная версия
Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III
Роль Ивана Бездомного, героя-простака, невежество которого используют такие «идеологи» как редактор Берлиоз, довольно значима для общей концепции романа Булгакова. По невежеству Бездомный не только не знаком с ораторией Берлиоза «Осуждение Фауста», но и знаменитой оперы Гуно никогда не слышал: «Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы „Фауст“ не слыхали?» говорит ему Мастер Булгакова, достаточно «посвященный» в эту тему. (гл. 13) –
Тот акцент, который французский композитор Берлиоз делает на осуждении Фауста, Булгаковым был перенесен скорее на осуждение Михаила Берлиоза (это очень сложный ассоциативный перенос идей от противного). То есть, один Берлиоз утверждает своим «Апофеозом Маргариты» веру и бессмертие ее души, а другой Берлиоз страдает полным отсутствием души и веры – и это его свободный выбор (за что он и поплатился у Булгакова – мы видим его не иначе как в аду, среди душ, осужденных на ). При этом нужно было еще обладать мужеством автора, чтобы дать тривиальному герою свое собственное имя Михаила. небытие
У композитора Берлиоза нет прощения Фаусту, продавшемуся сатане, и в этом основная причина, по которой Булгаков выбрал имя Берлиоза для своего сниженного героя. Булгаков вступает с композитором в определенную полемику. Гектор Берлиоз, в свою очередь, отступил от замысла Гёте (тоже полемизируя с ним). Но зато композитор организует свой финал совершенно в соответствии с народными легендами о Фаусте. Например, в Народной книге Шписа Фауст задает вопрос Мефистофелю: смилуется ли Господь над осужденными на адские муки? Смогут ли грешники вновь обрести милость и прощенье Бога? И Фауст из народной книги получает ответ – нет: «Ибо все те, кто обретается в аду, кого отринул господь, там навек останутся и пребудут в гневе господнем и немилости, там, где нет навсегда никакой надежды». Мефистофель из народных сказаний о Фаусте перечисляет Фаусту все его поступки, делающие невозможным его прощение у Бога: «Ты… отступился от своего создателя, который тебя сотворил, дал тебе язык, зрение и слух, чтобы ты разумел его волю и стремился к вечному блаженству. От него ты отрекся, ты употребил во зло дивный дар твоего разума, ты отказался от бога и от всех людей, и в этом тебе некого винить, как только свои дерзкие и гордые помыслы, ради которых ты потерял лучшее свое сокровище и драгоценность – царство божие». Так повествует об этом народная немецкая легенда. «Ты… отступился от своего создателя». Диалектика споров о судьбе Фауста (Брюсов, Булгаков и Гектор Берлиоз).
В отличие от Гёте, у композитора Берлиоза ангелы не забирают душу Фауста к себе на небо, она остается в аду, принадлежа темной силе злого духа. Как известно, у Булгакова, благодаря Маргарите, прощение получают все те грешники, которые просят об этом, за которых просит Маргарита у «высших» сил: и Фрида, и сам Понтий Пилат. Даже Иванушка Бездомный благополучно выходит из своего когнитивного диссонанса, нанесенного ему видением темной силы. Своим высочайшим «распоряжением» Иешуа вступается также и за Мастера и Маргариту.
Булгаков оправдывает, таким образом, свою героиню Маргариту, ставшую ведьмой ради спасения души Мастера (как В. Брюсов в романе «Огненный ангел» оправдывает своего Фауста). В романе Брюсова своеобразно разрешен дьяволу. Фауст у Брюсова рассматривает как намеренное принесение своей души в жертву. Он считает, что сам человек при этом уподобляется богу, пожертвовавшему своим сыном ради спасения мира: «Не забудьте, что и поэтому есть в нем свойства, непонятные не только демонам, но и ангелам. Ангелы и демоны могут стремиться лишь к своему благу, первые – во славу божию, вторые – во славу зла, но человек может искать и скорби, и страдания, и самой смерти. Как господь вседержитель сына своего единородного принес в жертву за сотворенный им мир, так мы порою приносим в жертву нашу бессмертную душу и тем уподобляемся создателю. И вспомните слова евангельские: кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет, тот сбережет!» (В. Брюсов «Огненный ангел»; ). вопрос о запродаже души договор человека и сатаны человек сотворен по образу и подобию самого творца гл. 13
Глава 4. Типологические особенности «антиевангелия» как антижанра
Метафизические вопросы. Добро и Зло
…Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло
Бытие; 3:5«…вечно хочет зла и вечно совершает благо».
И. Гёте. «Фауст»Противопоставление Добра и Зла как полярных начал сформировалось еще в мифах, которые по своей сути – дуальны, так как в них изначально присутствует двоемирие. Противопоставление Добра и Зла («…по сторонам животворяща древа…»).
В «Руслане и Людмиле» Пушкин нарисовал мифическое древо («у Лукоморья дуб зеленый»), одним из прототипов которого, безусловно, является Мировое Древо из (которое также присутствует и в библейской как Дерево Познания Жизни и Смерти – в «Бытии» Моисея). Древо Жизни и Смерти (символ оси мира) с его центральным положением («на лоне мира», по Пушкину) определяет диалектику человеческой жизни и смерти и роль самого человека в развитии этой диалектики. Там, «у Лукоморья» – в этом сакральном центре вселенной в виде некого острова (где «дремучий берег») – обитают у Пушкина и темные и светлые духи – духи Добра и духи Зла: мономифа сцене в раю
Чета духов с начала мира,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучий берег стережет…
По одну сторону древа – человека всегда будут подстерегать духи Тьмы, по другую – духи Света. «На этом стоит мир», – говорит Воланд, повелитель духов Тьмы в «Мастере и Маргарите» у Булгакова.
Согласно, например, традиции иудаизма (мистического учения каббалы), не существует абсолютного Добра, как и абсолютного Зла. Зло неотделимо от Добра, и его существование в мире необходимо. Но не существует и абсолютного зла. Зло есть лишь умаление света, тень, исходящая от божественного источника. Зло неотделимо от Добра, и его существование в мире необходимо. С другой стороны, то, что человеку может показаться Злом, с позиции высшего разума может являться для него Добром, поскольку замыслы высшего разума сокрыты от человека. Поэтому в иудаизме вообще отрицается существование Зла как отдельной независимой силы, существующей в мире. Все в итоге служит Добру. Эти постулаты отражают также и идеи романа Булгакова – последователя многих художественных идей Пушкина, Гёте, Достоевского и Толстого.
Образ демона как олицетворение метафизического зла имеет глубочайшую традицию в мировой литературе. Вслед за Гёте Пушкин в своей «Сцене из Фауста» (1825) олицетворяет духа зла в образе Мефистофеля, c которым у Фауста заключен договор (собственно, договор с совестью, со своей темной стороной души). Этот пушкинский образ сродни гётевскому Мефистофелю – тоже духу зла и духу отрицания. Но еще раньше Пушкин пытался осознать природу метафизического зла в своем стихотворении «Демон» (1823), где он рисует образ некого бесплотного духа и воплощение обратной стороны души человека, которая сродни той психической силе, что заставляет человека иногда совершенно неожиданно для себя поступать себе же во зло. М. Булгаков, как известно, следуя во многом традициям И. Гёте и Пушкина при написании своего романа, берет эпиграфом к «Мастеру и Маргарите» слова Мефистофеля: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». «…Я мелким бесом извивался». Метафизическое зло. Родословная «мелкого беса» (Пушкин – Гете – Эдгар По – Бодлер – Булгаков).
Продолжателем традиций Гёте и Пушкина в этом плане можно считать также французского поэта Шарля Бодлера – певца «цветов зла», который переводит на французский язык новеллу американского писателя Эдгара По «The Imp of the perverse» («Бес противоречия»), одно из программных произведений Эдгара По.
Рассказ «The Imp of the perverse» («Бес противоречия»), который еще переводят как «Демон перверсии», что очень близко французскому переводу Бодлера («Le Démon de la perversion»), касается неизведанной области человеческой психологии – поведения человека, которую Эдгар По в рассказе «Черный кот» определяет как «» («the primitive impulses of the human heart»). Речь идет об олицетворении психической (психологической) силы, которая часто неожиданно для самого человека заставляет его поступать словно себе во зло, о чем, собственно, и повествует «The Imp of the perverse» Эдгара По. немотивированной силы первобытные импульсы человеческого сердца
Переведенное Бодлером «the imp of the perverse» как «злокозненный демон» типологически очень близко бесу-проказнику Эдгара По – «мелкому бесу» («недобесу»). В создании «мелкого беса» можно наблюдать у Э. По не только сосредоточенность на темной стороне человеческой личности, но здесь проглядывает также и его своеобразный «поэтический принцип» – страсть к игре слов, каламбурам и парономазиям: так в самом слове ’ («перверсия») Эдгар По видит поразительное его превращение из слова ’ (стихи, слово) – почти в его библейском значении («В начале было »). Добавляя этот игровой момент в название своего произведения, Эдгар По не столько демонизирует перверсию, сколько указывал на то, что человек вынужден жить, мириться и играть со своими страстями, несмотря на то что они могут нести ему гибель. В таком понимании его образ очень близок немецкому писателю И. Гёте с его (которого Пушкин также пытался осмыслять в «Демоне» и в своих критических статьях по поводу «Демона»). perverse’ verse’ слово Imp of the perverse Духом отрицания
Шарлю Бодлеру тоже доводилось аналогичным образом играть с понятием стоит вспомнить сопоставление у него этого слова с лексемой les vers (черви): «Ô vers! Noirs compagnons sans oreille et sans yeux, / Voyez venir à vous un mort libre et joyeux» («О земляные черви! Темные спутники без слуха и зрения, //Услышьте приход к вам вашей смерти, свободной и радостной»; ). версификации (от фр. слова ’vers’ – стихи) – перевод с фр. наш – А.-А. А
Переводя новеллу Эдгара По, Бодлер включает ту же словесную игру, которая местами выливается у него в своего рода текста источника, не лишенную элементов литературной мистификации (когда один язык начинает говорить вместо другого, это зачастую действительно может обернуться некой мистификацией, чем, собственно, и является всякий гениальный литературный перевод). перверсификацию
У американского писателя Эдгара По понятие ’imp’ («бесёнок», «дьяволенок», «чертенок») лексически очень близко русскому «бес» или «бесенок» (ср. у Пушкина в «Сцене из Фауста»: «Я мелким бесом извивался»), хорошо известному также и по роману писателя серебряного века Федора Сологуба – «Мелкий бес»). У писателя Э. По понятие ’imp’ имеет подчеркнутые коннотации с инфантильностью (детскостью, наивностью и недоразвитостью) беса – нечто вроде «недобеса» по отношению к истинному теологическому дьяволу. Переводя рассказ Эдгара По на французский язык, Шарль Бодлер передает слово ’the imp’ французским ’le démon’, достаточно верно схватив внутреннюю форму исходного английского слова трактуя его как «маленького демона или дьявола, озорного духа» (. Заметим что и Пушкин, изображая невольную перверсию души человека в стихотворении «Демон» (1825), называет (по Гёте) или (по Эдгару По) также «демоном». a small demon or devil; mischievous sprite) беса отрицания беса перверсии
Для Бодлера, который, как и Пушкин, называет б демоном, также будет важным в переводе новеллы По, что , к которому восходит английское буквально означает «сеять семена в землю», что фигурально может подразумевать внедрение в сердце человека некой духовной сущности (собственно, Духа —). Однако все же Бодлер вместо высокопарного переводит английское ’ более значимым для него словом – вместо высокопарного которое в его сознании соотносится скорее даже не с романтическим образом и не с образом христианской демонологии, а с «демоном Сократа», а также со средневековыми буффонами, ломающими комедию на улицах и площадях. И в этом образ Шарля Бодлера где-то смыкается с булгаковскими образами бесов из «Мастера и Маргариты». еса противоречия ’emphutos’ ’imp’, «Esprit’ / «Sprite’ Esprit (Sprite) ’the imp ’démon’ (демон) ’esprit/sprite’,
«Руслан и Людмила» (1821)
Развитие «метажанра»
Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого писания: это – лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость одностороння, а истину можно повернуть любой гранью!
(И). з речей Мефистофелеса Фаусту В. Брюсов «Огненный ангел» (гл. 13)«Новая метода-с!»
Ф. М. Достоевский.«Братья Карамазовы». Сочетание двух планов изображения жизни и смерти: земного-временного и небесно-метафизически-вечного оправдывает у Булгакова и роль Воланда (как и роль Мефистофеля у Гёте и у Пушкина) – как той «вечной силы», «всегда желавшей зла, творившей лишь благое» – ведь в мистериальном целом произведений Булгакова и Гёте, и Мефистофель и Воланд являются средством осуществления божественного Промысла – призванные спровоцировать страдание человека и через это страдание . Земное-временное и небесно-метафизически-вечное очистить его душу
У Булгакова многократно подчеркнута в романе значимость и очистительная сила зла. «Не будешь ли ты так добр, подумать над вопросом: что делало бы твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» – спрашивает Воланд Левия Матвея. Булгаков заимствует этот постулат (как и Гёте в свое время), у иудейских религиозных мыслителей и средневековых каббалистов. Но еще в Книге Иова звучал этот постулат: «Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres» («Неужели добро мы будем принимать от Бога, а зло не будем принимать? И в этом не погрешил Иов устами своими»; перевод с фр. наш – А.-А. А).
Вспомним, как Мастер у Булгакова обрел свою первую идиллию: тогда судьба неожиданно проявила к нему свою благосклонность – вдруг он выигрывает в лотерею сто тысяч рублей, на которые он смог купить себе квартирку в подвальчике московского особняка, где затем он писал свой любимый роман и полюбил Маргариту. В какой-то момент этой идиллии Мастера Фортуна стала проявлять свою «ускользающую» природу. Рассказ Мастера о потерях, которые вдруг настигли его, можно сравнить разве что с рассказом библейского Иова о тех бедствиях, которые наслал на него Сатана (Satan), отняв у него все то, что тот имел в жизни благодаря Богу: дом, скот, здоровье, детей. Иов ничего не знает о замыслах Бога и Сатаны (как провокатора «сделки» с Богом). В какой-то момент, раздосадованный, он начинает роптать на Бога. Эту линию вопиющего от горя и восстающего на Бога героя продолжает в русской литературе образ пушкинского бедного Евгения в «Медном всаднике», где «безумец бедный» Евгений восстает против небесных сил.
Мастер Булгакова, как и «бедный» Иов из библейской Книги Иова (а также «безумец бедный» Евгений из поэмы Пушкина «Медный всадник»), тоже неожиданно теряет все в своей жизни. Сначала покой из-за своего романа, не найдя признания в литературных кругах, потом сам роман, сжигая его в печке, затем теряет свою возлюбленную Маргариту, ушедшую в ночь и оставившую его одного буквально перед самым арестом. Выигранные деньги его давно закончились. И, в конце концов, он лишается и своего дома – в результате темного заговора своего странного друга с застройщиком квартирки, купленной на Арбате. Когда Мастера выпускают из-под ареста, в его квартиру уже вселился его «друг» -доносчик. Мастер лишается своего последнего пристанища и сам становится «Иваном Бездомным».
Исповедь Мастера о том, как он дошел до психиатрической лечебницы, – поистине «вопль» бедного Иова (но только без единого упрека в адрес Бога). Мастер оказался под арестом, а затем в психиатрической клинике, а бандиты, решившие его «квартирный вопрос», не только были на свободе, но и владели его квартирой. Зло окончательно как бы побеждает в этой ситуации, в которой оказывается Мастер.
Какие силы (какие «ведомства») стоят за бедствиями, которые выпали на долю бедного Иова? А в случае с «бедным» Евгением? Или в случае с «бедным» Мастером? В жанре «евангелия от Сатаны» всегда есть завеса и тайна, кто именно стоит за роковыми событиями, в водоворот которых ввергается герой. ищущий истину
…)В то время как Мастер Булгакова страдает в психиатрической клинике, герой написанного им романа, бедный философ Иешуа – также под арестом, и его судят вместе с разбойниками: Дисмасом, Гестасом и Варравваном. Иешуа также в ситуации, когда Зло окончательно побеждает Добро. Но Иешуа, как и Мастер, не ропщет. Иешуа продолжает проповедовать Добро и утверждает, что Зла нет («злых людей нет»). На допросе у прокуратора Понтия Пилата он не отступает от своей линии (Пилату он представляется всего лишь бедным и безумным философом): Отрицание зла злых людей нет на свете» . Проповедь добра. («
Прокуратор:
– Не знаешь ли ты таких: некоего Дисмаса, другого – Гестаса и третьего – Варраввана?
Иешуа:
– Этих добрых людей я не знаю.
Прокуратор:
– Правда?
Иешуа:
– Правда.
Прокуратор:
– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
Иешуа:
– Всех, нет на свете. злых людей
Прокуратор:
– Впервые слышу об этом, но, может быть, я мало знаю жизнь! В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
Иешуа:
– Нет, я своим умом дошел до этого.
Прокуратор:
– И ты проповедуешь это?
Иешуа:
– Да.
Иешуа у Булгакова непреклонен в своей , и в этом он противостоит дьяволу Воланду, которой дает отповедь Добру («что делало бы твое добро, если бы не существовало зла?»). Левий Матвей, сторонник сил Света и Добра, не случайно называет Воланда «старым софистом», искусно оправдывающим Зло и приписывающим ему некую «очистительную» силу. Здесь мы найдем у Булгакова отголоски жанра «сократических диалогов» (не зря Пилат спрашивает Иешуа, в какой из греческих книг он прочитал проповедуемые им мудрости, возможно, намекая и на самого греческого философа Сократа). Проповедь и отповедь. Очистительная сила зла («Каждое ведомство должно заниматься своими делами»). проповеди Добра и отрицании Зла
Мы найдем также здесь и скрытую реминисценцию из «Сцены из Фауста» Пушкина (1825), где с той же интонацией упрека, что и у Воланда («что делало бы твое добро, если бы не существовало зла?») пушкинский Мефистофель (называя Фауста «философ мой») пытается доказать ему свою правду: «Не Но нельзя ль узнать… Кого изволишь…»; «Скажи, когда ты не скучал?… Тогда ли… Как…?». С этими интонациями «философа» (софиста), повторяющимися затем и у булгаковского Воланда, Мефистофель у Пушкина также упрекает Фауста в некоторой неблагодарности, лукаво вопрошая его, что делал бы он – пресытившийся жизнью господин, если бы не он – Мефистофель, дух зла и «адское творенье»: правда ль?
Другой предшественник Воланда и последователь Мефистофеля в родословной духов зла – Черт в «Братьях Карамазовых» Достоевского, явившийся Ивану Карамазову, еще более искусен как софист в своих рассуждениях о Добре и Зле. Он вступает в спор с самим Гёте, скептически обыгрывая высказывание немецкого классика о том, что Зло – лишь часть Добра и что одно без другого существовать не могут, что, по мнению Черта, явившегося Ивану Карамазову, саму мысль о Добре и Зле доводит до абсурда. Черт у Достоевского готов даже якобы , но… не он создавал этот мир: «Вот и служу скрепя сердце, … и творю неразумное по приказу» («Братья Карамазовы», ). Черт у Достоевского признает над собой силу, которой он не может якобы противостоять и не творить зло («творю неразумное по приказу»), поскольку признается Ивану Карамазову, что сам Бог ему «приказывает». Здесь у Черта Достоевского мы обнаруживаем совершенно дьявольскую софистику со всеми возможными подменами понятий. В одной мысли, однако, Черт Достоевского сходится с Гёте – в той части, что есть некая завеса и тайна в решениях, принимаемых высшими силами в судьбе человека. принять и сам, в свою очередь, доходит до абсурдной мысли, – что якобы он сам должен быть уничтожен как олицетворение зла мир без зла гл. 9
Учение Христа о добре и правде, записанное его учениками в «Евангелиях от…» Матфея, Луки, Марка и Иоанна – это, прежде всего, проповедь Добра как самостоятельной силы, которая не нуждается в соотнесении его со Злом.
Рассказ о событиях священной истории от лица Беса-искусителя требует от художника иного подхода к изображению Добра и Зла в создаваемом жанре. Если «Бытие» от Моисея и «Евангелие» от Матфея, Луки, Марка, Иоанна – это проповедь, то «Евангелие» от Беса-искусителя – это всегда будет отповедь. В ней можно найти также отражение Слова Божия и проповеди Христа, но довольно своеобразно, – скорее, как в кривом зеркале. Понятия Добра и Зла в могут существовать лишь относительно одно другого – по принципу противоположностей в зеркале. жанре от противного
«С рассказом Моисея //Не соглашу рассказа моего», – говорит Змей-искуситель в «Гавриилиаде» Пушкина. Уже у Пушкина мы можем найти те кривые зеркала (обратно-симметричного отражения в отповеди мотивов евангельской проповеди), которые мы встречаем затем у Пушкина в его «Сцене из Фауста» (1825), а также в отповеди Онегина Татьяне в «Евгении Онегине». Можно считать Пушкина одним из первых, кто экспериментировал в жанре отповеди (, – не только в русской, но и в мировой литературе (такие его произведения как баллада «Монах» (1813), стихотворение «Тень Фонвизина» (1815), «Гавриилиада» (1821) были написаны даже раньше, чем была переведена на русский язык трагедия Гёте «Фауст»; 1828). евангелия от сатаны)
Немецкий классик Иоганн Вольфганг Гёте в своей трагедии «Фауст», развивая новый жанр «евангелия от сатаны», основывается на памяти «старого» – на эпизодах из библии (следуя также традициям гностицизма, некоторым идеям эзотерического учения иудаизма, т.е. каббалы, и некоторым положениям масонства). В «Прологе на небесах» Гёте, снова после библейской С Моисея (Бог и Змей-искуситель у подножия Древа Жизни), снова после в Книге Иова, переносит в Рай героев своего пролога – Бога и Дьявола (туда, где, собственно, изначально и было совершено искушение Змием первого человека – в эпизоде истории грехопадения). Из «Пролога» Гёте мы узнаем, что Бог отправляет своим посланником на землю в Новый Свет не ангела (серафима), а Беса Мефистофеля, позволяя ему, собственно, творить новую историю человека и человечества (и будучи ее свидетелем, повествовать затем о ней от своего лица). «Пролог на небесах» с участием Господа, архангелов и Мефистофеля превращает трагедию И. Гёте в «представление в представлении» и придает ее тексту значение . Сама трагедия гётевского героя Фауста приобретает здесь также форму мистерии и двойной план значения испытаний для человека – земной и небесный. После «Пролога на небесах» небесные силы у Гёте нигде уже больше не вмешиваются в дальнейшую судьбу Фауста – его борьбу, искания, сомнения и скитания, он практически покинут Богом и должен один на один смотреть в глаза Мефистофелю, представителю темной силы и олицетворению сил Зла. Драма и мистерия. цены в Раю Сцены на небесах священной мистерии
Итальянский поэт Данте Алигьери, во времена которого возрождался интерес к античному искусству, назвал свое произведение «Божественная комедия», скорее всего, в дань тогдашней философской моде на «Поэтику» Аристотеля. Аристотель понимал комедию как жанр, в котором сюжет должен развиваться от трагичного положения героя в мире к его оптимистическому концу (соответственно, трагедия по Аристотелю – это жанр, развивающийся в обратном направлении – от веселого и оптимистического созерцания жизни к грустному и пессимистичному концу, к трагедии героя, то есть, собственно, к его смерти). Трагедия и комедия. Мистерия и буффонада.
Показывая развитие трагедии как жанр и сравнивая его с комедией, Аристотель в «Поэтике» отметил, что происхождение обоих жанров имеет непосредственное отношение к древнему греческому уличному театру с его хором и корифеем хора (запевалой): свое происхождение ведут: «первая <трагедия> – от запевал дифирамба, а вторая <комедия> – от запевал фаллических песен». Под «фаллическими песнями» Аристотель, очевидно, имел в виду те задорные песнопения, которые исполнялись во время процессий в честь бога Диониса (дионисии), во время которых несли также «фаллос» как символ плодородия. Аристотель тут же отмечает, что эти песнопения («фаллические песни») сохранились с древних времен и были употребительны даже в его время во многих городах. Показывая дальнейшее развитие трагедии и комедии как противоположных жанров, античный автор «Поэтики» отмечал, что Эсхил ввел в хоры первого актера, который мог вести разговор с запевалой, прерываемый песнями хора, он «уменьшил партии хора и на первое место поставил диалог, а Софокл ввел в представление трех актеров и декорации». Интересно отметить взгляд Аристотеля на происхождение диалога трагедий («серьезный» диалог), он считал, что диалог трагедии обязан своему происхождению из «шутливого диалога» двух актеров («так как он родился из сатировской драмы»). трагедия и комедия