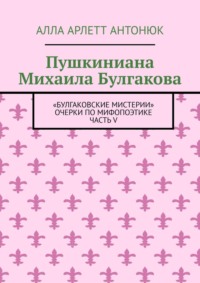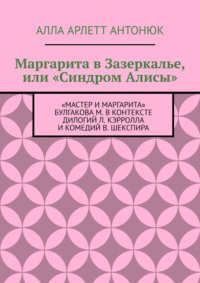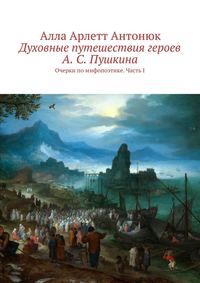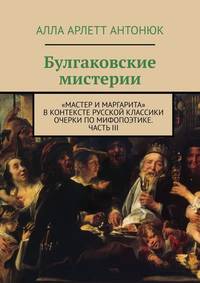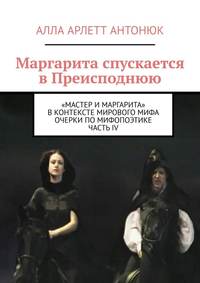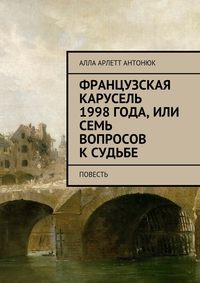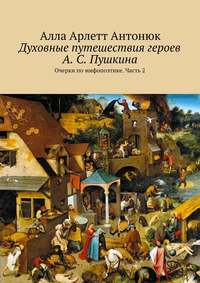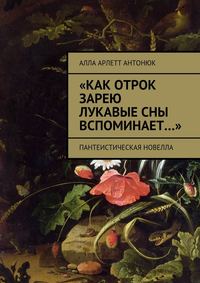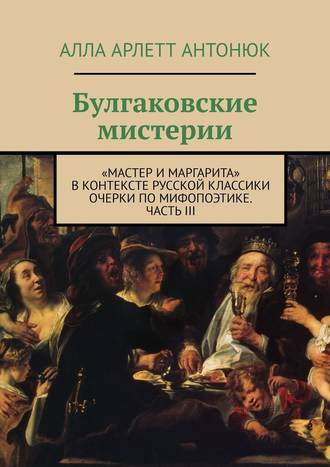
Полная версия
Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III
Библия охватывает все аспекты бытия человека перед лицом Божиим. «Если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие», – писал Пушкин о сюжетной увлекательности и художественной гармоничности как источниках притягательности Библии (в рецензии на новый перевод книги «Dei doveri degli uomini» – «Об обязанностях человека» итальянского автора Сильвио Пеллико,1836, – T.7; c. 470). Говоря также словами Пушкина, тексты Библии как «проповеди небесного учителя» исполнены «сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармонического красноречия».
Как повествовательный жанр, евангелие – «благая весть» – это слово божие, которое также оповещает человека о новых божественных планах в отношении его земной судьбы. То есть, когда Булгаков называл одну из глав своего романа «Евангелие от Воланда» (в наметках 1911 года), он отдавал роль ангелов – демону, делая его духом «сочувствующим», который должен был теперь донести эту до человека. Был ли снова Булгаков первым, разрабатывая подобный поворот сюжета? благую весть
В России жанр «переложений» имел свою давнюю историю, и Булгаков, конечно же, не был первым, кто вывел в своем романе героя-дьявола на сцену. В поэме «Тень Фонвизина» (1815) Пушкин дает художественную картину литературной жизни России – ее прошлого и настоящего, а также представляет несколько пародий на произведения современной ему русской литературы, из которых мы узнаем, что образ Люцифера (имеющий в своей родословной и Сатанаила) имел место и в русских «библейских преложеньях» – как у современников, так и у предшественников Пушкина. Пародируя своих коллег по цеху, Пушкин берет, например, из гимна своего учителя Державина (состоящего из 645 стихов) 10 стихов из разных мест, подходящих ему по рифмовке и с умышленным подчеркиванием перетасовывает эти стихи, превращая их в «фарш» (как, собственно, и зародился как пародийный жанр). Передавая священный пафос стихов своего учителя, Пушкин придает, однако, новый смысл своей пародии на Державина: Посланник Бога и посланник Дьявола. Дьяволиада и «Гавриилиада». фарс
Открылась тайн священных дверь,
Из бездн исходит Луцифер
Смиренный, но челоперунный —
Наполеон! Наполеон!
Париж и новый Вавилон,
И кроткий Агнец белорунный
Превосходясь, как дивий Гог,
Упал как дух Сатанаила.
Исчезла демонская сила,
Благословен Господь наш Бог.
Здесь у Пушкина, как и у древнегреческого писателя Лукиана (II в.), перемешано все – низкое и высокое, священное и профанное, историческое и вымышленное. Строки эти переложены Пушкиным с задором молодого бунтаря Гёте, также написавшего в свое время полемическую сатиру и фарс «Боги, герои и Виланд», жанр которого – беседы душ умерших в загробном мире – был подсказан ему серией диалогов между историческими лицами, сочиненными Виландом в подражание «Беседам богов» Лукиана.
Эта традиция жанра, которая идет из глубокой античности (еще от «сократических диалогов»), оказала свое влияние и на молодого Пушкина. Так, в частности, испытав, очевидно, влияние «Разговоров в царстве мертвых» Лукиана, молодой Пушкин в прологе к своей поэме «Тень Фонвизина» (1815) переносит её действие в Царство мертвых (царство ). Оттуда его герой вместе с Меркурием, вестником богов, совершает путешествие в современную Пушкину Москву, где «тень Фонвизина» (его дух) имеет возможность созерцать московскую литературную жизнь. Он выступает с ее критикой – жанров и корифеев, а также пародирует эти жанры, называя один из них «библейскими преложеньями», – жанр, в котором творили и Сумароков и Державин: теней
Пустился <Державин> петь свое творенье,
Статей библейских преложенье.
Обнаружив, таким образом, свои зачатки еще в «Тени Фонвизина» (1815), этот синкретичный жанр получает затем свое постепенное развитие и в других произведениях Пушкина. Так в 1821 году под влиянием «Орлеанской девственницы» Вольтера он берется дерзко обыгрывать сюжеты из библии, и у него рождается кощунственная поэма и фарс под названием «Гавриилиада» (1821), сюжетом которой становится явление с Благой вестью Деве Марии Архангела Гавриила – весть о сыне человеческом, которого Бог хочет ввести в мир людей. Уже здесь поэму Пушкина, действительно, скорее можно назвать , так как, по сюжету Пушкина, именно Змий-искуситель – один из ее главных героев – кощунственно вмешивается в ход человеческой истории и в божественные планы Господа, стараясь помешать ему ввести в мир своего сына Христа. путешествия в иные миры дьяволиадой
В пушкинской России жанр «библейских преложений» был очень популярен даже в гимназической среде, где он проявлял себя именно как антиевангелие – (дьявола), в котором свидетельствование священной истории передавалось с точки зрения самого дьявола как ее участника. «Это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю», – рассказывает, например, Иван Карамазов у Достоевского исторический опыт произведений подобного жанра, предшествовавший его собственному написанию . евангелие от беса поэмы о Великом инквизиторе
Уже во времена Пушкина один из видов сочинений, которые предлагались лицеистам на уроках словесности, было из «Бытия» Моисеяи всей священной истории (самого Слова Божия и проповеди Христа) от лица других ее участников – Адама, Евы, Змия-искусителя и т. д. («выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого бога», – вспоминает Иван Карамазов у Достоевского в романе «Братья Карамазовы» историю этого жанра (глава 22). В молодости Иван Карамазов, сам создавая , ввел в действие своей поэмы , соблазнявшем Христа в пустыне, Иерусалиме и на Синае, – события, изначально описанные в Евангелиях от Луки и Матфея (сам Левий Матвей, как известно, тоже становится позже героем романа Булгакова «Мастер и Маргарита»). переложение эпизодов легенду о Великом инквизиторе полемику о дьяволе
«У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления – из Ветхого завета особенно – тоже совершались по временам; но кроме драматических представлений по всему миру ходило тогда много повестей и „стихов“, в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная» (глава 22), – рассказывает также Иван Карамазов своему брату Алеше одну из страниц истории этого жанра в России (от священных мистерий до повестей и «стихов»). Уже эти, приведенные Достоевским примеры, показывают, что библия действительно представляла собой во все века некий Пратекст, в котором уже даны все основные персонажи, все структурные типы повествования и все основные темы, которые в последствии оказались богатым источником для новой литературы, в том числе и анти-евангелия как ее особого жанра.
Изначально «Мастер и Маргарита» был задуман Булгаковым как роман «О Боге» и «О Дьяволе», но продолжал все же оставаться, прежде всего, как «роман о Дьяволе» почти до самых последних этапов работы над ним. Об этом говорят все первоначальные варианты его заглавия: «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», «Подкова иностранца», «Князь тьмы», «Черный маг», «Гастроль Воланда», «Консультант с копытом», «Копыто инженера». (См. Чудаковa M. О. Творческая история романа M Булгакова «Мастер и Маргарита»//Вопросы литературы, 1976, №1. С. 218—253). Роман о Дьяволе.
уже на исходе европейского средневековья стал предметом художественного осмысления, прежде всего, в цикле народных ; а в литературе – в «Божественной комедии» Данте. В постренессансную эпоху мы найдем развитие в поэмах «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо и «Потерянный рай» Дж. Мильтона, а в последующую эпоху – в трагедии И. Гёте «Фауст», в поэме Д. Байрона «Каин», в «Гавриилиаде» (1821) и «Сцене из Фауста» (1825) Пушкина и т. д. Миф о дьяволе легенд о докторе Фаусте мифа о Дьяволе
В молодую советскую эпоху Маяковский, создавая в «Мистерии-буфф» «священную» пародию на евангелие и тем самым открывая, как и Булгаков, малую антологию жанров «антиевангелия» в советской литературе, назвал одновременно и сами источники происхождения этого жанра:
…и долго дымными дышишь легендами, —
так жизнь ускользала от нас до сегодня.
Нам написали Евангелие,
Коран,
«Потерянный и возвращенный рай»,
и еще,
и еще —
многое множество книжек.
По Маяковскому, через Евангелие и Коран, а также «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Джона Мильтона – проникает в русское футуристическое искусство, превращая мистерию в буффонаду с ее мистерийными чертями, подобными карнавальным и имеющим свои корни еще в сказках Пушкина. По справедливому замечанию Петровского, М., «Булгаков основательно „мистеризировал“ буффонаду, а Маяковский – „буффонизировал“ мистерию»; «богоборческой мистерии-буфф Маяковского противостоит богоискательская мистерия-буфф Булгакова». миф о дьяволе
имеет, таким образом, глубочайшую традицию, основанную на (змие-похитителе). Миф включает в себя комплекс представлений о тех способах, какими дьявол способен отвратить человека от веры в Бога и от понимания ценности жизни, ярко показанные Пушкиным в споре в «Сцене из Фауста» (1825). Оставаясь структурно устойчивым, оброс за литературное столетие после Пушкина множеством новых подробностей и интерпретаций. Когда Булгаков начал писать «Мастера и Маргариту» (1928), в это же время вышел перевод труда известнейшего французского историка Ж. Мишле «Ведьма» (1929), а Брюсовым В. уже был написан его роман «Огненный Ангел» (1909) с его знаменитой сценой . Но еще столетие назад русский писатель Орест Сомов – не без влияния Пушкина – написал повесть «Киевские ведьмы» (1833), в которой также мы найдем подробное описание полета героев на шабаш и описание самого шабаша. Богоискательская мистерия Булгакова мифе о дьяволе человека и беса миф о дьяволе полета на шабаш
В 1930 г. появился перевод научно-популярной работы немецкого автора рубежа XIX – XX вв. М. Геннинга «Дьявол, его миф и история в христианской религии», а в 1932 году – «Молот ведьм» в русском переводе и с предисловием С. Лозинского, где на основании средневековых «документов» излагалась краткая история общения человека с дьяволом. Таким образом, перед Булгаковым был богатейший круг литературных и исторических источников, в которых в разной степени отразился многовековой имеющий свои корни еще в Библии – и в Ветхом и в Новом Завете. Но еще в 1825 году Пушкиным была написана «Сцена из Фауста»: Фауст и Мефистофель на берегу моря, в которой Пушкин показывает, как посредством договора Фауст получает (очевидно, также как и гётевский Фауст – от самого Бога) возможность повелевать самим дьяволом. миф о дьяволе,
И. Гёте «Фауст» ( Н. Холодковского) Пер. с нем. Дж. Байрон «Каин» (1821)Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1815)Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1815)В. Маяковский. «Мистерия-буфф» (1918)
И сказал господь сатане…
(Иов, I; 6—12).Мефистофель (Господу):
Угодно об заклад побиться?
И. Гёте. «Фауст». Пролог; ( Д. Мережковского) пер.Глава 3. Диалог Бога и Сатаны
Диалог Бога и Сатаны в «Книге Иова» («Ветхий Завет»)
«Читаю Библию, святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира».
Пушкин А. С. (Из письма Н. Н. Гончаровой от 1824 г.)Мефистофель в «Фаусте» Гёте – это гигантская черная темная сила, отданная волею Бога в услужение Фаусту, который получает её в качестве исключения за научные достижения. У гётевского Мефистофеля гигантские возможности, но сам он не вправе использовать эти возможности по своему усмотрению. Он – власть исполнительная. У Фауста, который может отдать любой приказ Мефистофелю, в руках вся полнота власти на планете. Но парадокс в том, что сам Фауст об этом не подозревает. Конечно, та власть, которую имеет Фауст у Гёте, и власть Фауста в пушкинской «Сцене из Фауста» (1825) – это разные уровни власти. У Гёте Фауст на равных с канцлерами и царями древнего мира, вместе с Мефистофелем он дает советы самому императору, пытаясь спасти империю от развала. Фауст у Гёте уверен, что власть дает счастье. У Пушкина же Фауст – скучающий гений. Ему скучно, и это позиция человека, пресыщенного властью. Что касается силы власти Воланда в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», Коровьев так говорит о ее размахе Маргарите: «Мы увидим <на балу Сатаны> лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и, даже я бы сказал, грустно» . Договор Бога с дьяволом («Во власть твою //Раба Господня отдаю»). (гл. 22)
(И. Гёте. «Фауст». Пролог; пер. Мережковского). В Книге Иова недвусмысленно ставится под сомнение популярная трактовка Завета как сделки. Действительно ли так уж возвышенна преданность Иова Богу, если она приносится только в обмен на божественные благодеяния? «Разве не за мзду богобоязнен Иов?» – в этом вопросе библейский Сатана как бы предвосхищает те обвинения, которые не раз потом выдвигались против религиозной этики, якобы всецело построенной на «награде и каре». Награда и кара («Угодно об заклад побиться?»)
Вообще, судьба демона – трагична, как и судьба самого человека. Злой дух – есть олицетворение мщения, и вся его судьба – это мстительные подвиги. Возможно ли тогда, чтобы тот, кто изначально в результате своей мести предназначен был сеять зло на земле и докучать злом человеку, принес бы ему хоть какую-то в облегчение его судьбы? благую весть
Гёте И. приоткрывает нам это закулисье в драме «Фауст» (1808). Пушкин в осмысление драмы Фауста пишет также свою «Сцену из Фауста» (1825), а через сто лет Булгаков, отвечая и на наши вопросы здесь, берет эпиграфом к своему роману «Мастер и Маргарита» (1928) слова Беса Мефистофеля, гетевского духа зла: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Эти слова, мудрствуя лукаво, действительно произносит у Гёте Бес Мефистофель. Но Булгаков вполне мог бы взять эпиграфом к своему роману и другие строки из «Фауста» Гёте, в которых мы найдем Беса Мефистофеля «сочувствующим» человеку духом Зла (как и сам Воланд у Булгакова):
Господь
Так на земле все для тебя не так?
Мефистофель
Да, господи, там беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда.
Здесь у Гёте в «Прологе» к «Фаусту» мы видим Мефистофеля, хоть и с нескрываемым скепсисом, однако же «сочувствующим» человеку (“…так худо, //Что даже я щажу его покуда»). Снова после «Бытия «Моисея в Ветхом Завете (где мы найдем самый первый диалог между Богом и Змием), Гёте опять включает подобный диалог в сюжет своей драмы о дальнейшем бытии и судьбе человечества (диалога Бога с Бесом Мефистофелем, который называет себя здесь правнуком тысячелетней Змеи-искусительницы).
Тема «милосердия» дьявола звучит и в романе Булгакова: «Я о милосердии говорю, – объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. – Иногда совершенно неожиданно и коварно оно проникает в самые узенькие щелки» . Пусть даже и со всем своим нескрываемым скепсисом, как у Мефистофеля Гёте, мы видим булгаковского Воланда в этой сцене все же «сочувствующим» человеку в его земной судьбе. В результате, несчастная Фрида, вопли которой проникали «в самые узенькие щелки» (то есть, доходили не только до человеческого слуха, но и до обитателей ада), была милосердно пощажена в своем вечном страдании, данном ей в наказание за убиение младенца. (гл. 24)
Гёте, когда замыслил своего Мефистофеля – «духа отрицанья», приносящего Господу весть о бедственном положении людей, тоже не был оригинален в таком повороте сюжета. Сцену, подобную «Прологу на небесах» у Гёте, мы можем обнаружить, как можно об этом догадаться, – еще в Библии, а именно, в Книге Иова, в которой библейский автор (в нем подозревают даже самого царя Соломона), также выводит на сцену Сатану.
Здесь, в Книге Иова, мы также найдем и эпизод с включенным в него диалогом между Богом и Сатаной. Эта библейская сцена переносит нас в надзвездные чертоги, где на престоле, подобно царю, принимающему доклады вельмож, восседает сам Бог Ягве, окруженный своими слугами-ангелами. Среди этих «сынов Божиих» выделяется один – с именем Сатана (т. е., Противящийся). Это имя не должно нас вводить в заблуждение: Противник (Противящийся) у Иова – не совсем дьявол, как его стали понимать позже в классической христианской демонологии. Это, скорее, демон – дух отрицающий, как понимал его, например, Пушкин, создавая подобный образ в своем стихотворении «Демон» (1823). Задача демона – испытывать (искушать) человека. Диалог Бога и Сатаны в «Книге Иова» («Ветхий Завет»). сцену в Раю
Библейский диалог между Богом и Сатàном (будем здесь называть его именно как Сатàн – с ударением на последнем слоге, на манер французской библии, где он назван Satan, чтобы нам отличать его от Сатаны-дьявола в классической христианской демонологии) происходит непосредственно после того, как демон Сатàн, обежав землю и обозрев людей на земле, приходит к Господу с некими упреками, настаивая на том, что праведник Иов, которого Бог «заприметил», почитает его лишь потому, что тот благословлен на удачу («Разве даром богобоязнен Иов?»). Сатàн просит у Бога разрешения проверить преданность Иова и его веру в Бога, на что Бог дает свое согласие, но в ограниченных пределах – Сатàн может насылать на человека любые бедствия и несчастья для испытания Иова, отнимая у него все, но не властен над его душой:
«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана.
И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане: вот, ; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня» (Иов, I; 6—12). все, что у него, в руке твоей
Итак, в Библии, где действительно можно найти все темы, которые оказываются в последующем богатым источником мировой литературы, можно найти и такой поворот сюжета, когда темный дух зла – демон сатàн (дух противящийся), названный также у Пушкина в «Сказке о попе…» супостатом (от ст.-слав. , : «Экого послали супостата!») – отправляется «благовестить» на землю. противоречащий противостоящий
Сама эта сцена из Книги Иова (сцена аудиенции в божественных чертогах) – очень повлияла не только на Гёте, но и на Пушкина. Пытаясь создать подобную сцену в «Гавриилиаде» (1821), Пушкин также рисует в своей поэме картину тронного зала – с восседающим божеством на троне и иерархическими рядами ангелов вокруг, он рисует картину явления Всевышнего перед своими «сынами», и все это представлено у Пушкина как сон Девы Марии:
Всевышний рек, – и деве снится сон:
Пред нею вдруг открылся небосклон;
Во глубине небес необозримой,
В сиянии и славе нестерпимой
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф бряцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, —
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился Он…
Все пали ниц… Умолкнул арфы звон.
Эта пушкинская смыкается не только с библейской сценой из Книги Иова, но также и со сценой из «Пролога» «Фауста» Гёте, где мы также можем видеть самого Господа, окруженного его небесным воинством, и в его первых рядах трех архангелов – Рафаила, Гавриила и Михаила: сцена явления Всевышнего
В этой сцене «Фауста» Гёте в хоре ангелов воспевает творение Бога и архангел Гавриил. Затем с визитом является Мефистофель – совсем как Сатàн в Книге Иова – доложить о жалком состоянии дел в белом свете.
У Пушкина в «Гавриилиаде», его травестийно переосмысленной буффонадной поэмы-мистерии, Архангел Гавриил становится одним из главных героев, в честь которого и названа «Гавриилиада». Сатана у Пушкина не присутствует на подобной аудиенции, как Мефистофель у Гёте (или Сатàн у Иова). На подобной аудиенции у Всевышнего мы можем видеть у Пушкина Деву Марию («Лицу небес Мария предстоит»). Во время церемонии ее взор привлекает своим необычайным ликом архангел Гавриил. Именно он должен у Пушкина донести Деве Марии благовестие о непорочном зачатии (“… Царь небес… в Меркурии архангела избрал, // И вечерком к Марии подослал»).
Также как библейский Сатàн в сцене Иова – дух , пришедший «предстать пред Господа» и возразить ему по поводу Иова, которого Бог привечал как праведника («обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?»), у Пушкина в «Гавриилиаде» Сатана (дух Лукавый) – тоже раздосадован тем, что Бог заприметил (имел «на примете») праведницу и девственницу еврейку Марию. Но у Пушкина Сатана не просит разрешения Господа совершить искус, а сам, по своей собственной воле, отличной от божественной, ввергает рабу Марию в несчастья и беды вопреки его воле. Задача дьявола – помешать пришествию сына Божьего в мир людей (которое Бог задумал как человечества). противящийся таинство искупления грехов и спасения
Задумав искушение, Сатана в «Гавриилиаде» Пушкина, пытается заставить деву Марию по-другому «познать блаженство» (здесь вступает в действие двусмысленность, которую, как известно, часто допускает Сатана, шутя коварно). «Блаженство» у него – скорее эротическое блаженство и обратно противоположно блаженству познания Бога. Сатана в «Гавриилиаде» Пушкина скорее выполняет , как это и следует травестийному персонажу, смешивая при этом все понятия – человеческого верха и низа и вводя во искушение деву Марию (что повторяет сцену искушения Евы Змием – в «Бытии» Моисея). антимиссию
По тому, как Пушкин переосмысливает ветхозаветную поэтику, можно заметить, что он читал библию во французском варианте (на французском языке). Французские влияния четко прослеживаются у него в тексте «Гавриилиады», которая явно испытала влияние Книги Иова. Так, наряду с определением , которое Пушкин использует для названия Бога, мы встречаем у него также и другое – («Предвечного стоит пред ними трон») которое, собственно, является калькой с французского – l’Eternel (от Вечность), которое в Книге Иова на французском языке употреблено как эвфемизм Бога. Представляется, что Пушкин действительно, скорее всего, читал Книгу Иова именно на французском языке, где мы найдем и с подобным эвфемизмом – Предвечный в замену Бог. Употребление Пушкиным Предвечный для имени Бога действительно можно рассматривать как влияние французского варианта текста библии, в котором Бог постоянно назван «L’Eternel» (Вечность). Всевышний Предвечный , фр. эпизод аудиенции
Таких французских влияний у Пушкина обнаруживается немало в поэтическом языке «Гавриилиады». Так французское «se présenter devant l’Éternel» (что означает «предстать перед Богом», а буквально – «предстать перед лицом Вечности», которое в русской библии переведено как «предстать пред Господа», в поэме Пушкина передано как «предстать лицу небес» («Лицу небес Мария предстоит»), и это опять совершенная калька Пушкина, дословный перевод с французского оборота: «Or, les fils de Dieu vinrent un jour , et Satan vint aussi au milieu d’eux se présenter devant l’Éternel»; Job, 2:1 («Пришли однажды сыны божии , среди них пришел также и Сатàн предстать пред лицом Вечности» (з.) se présenter devant l’Éternel предстать пред ликом Небес десь и впоследствии перевод с фр. наш – А.А.А
Тот же самый эпизод из Книги Иова (аудиенция у господа) И. Гёте перелагает почти дословно в «Фаусте» в «Прологе на небесах». Его Мефистофель также является на прием к Господу среди других многочисленных ангелов, чтобы доложить о положении дел на земле.
В «Гавриилиаде» Пушкин вводит Сатану не в эпизод божественной аудиенции «сынов божиих» «пред Господа», а находит другой для этого эпизод. Но характерно то, что, как и в библейском варианте Книги Иова, у Пушкина мы тоже видим Сатану «обегающим землю и людей» («De parcourir la terre et de m’y promener»). Во французской библии (в Книге Иова) мы читаем: «L’Éternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Éternel: De parcourir la terre et de m’y promener»; Job, 2:2) («Предвечный спросил у Сатàна: «Откуда явился ты?» И Сатàн отвечал Предвечному: «Я только что обежал землю и прошелся по ней»).