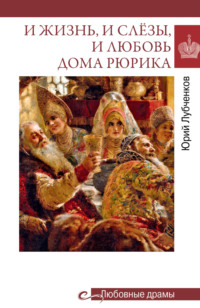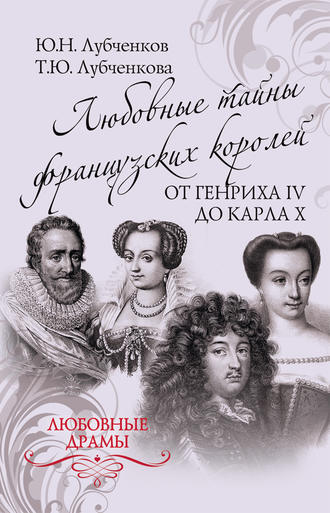
Полная версия
Любовные тайны французских королей от Генриха IV до Карла X
Папа предпочел все же кардиналу принца Орлеанского, хотя и не сразу: хитроумные переговоры о браке тянулись два года. К моменту их завершения Екатерине было уже тринадцать лет. Как отмечал в своих донесениях венецианский посланник в Риме Сориано, Екатерина – «девушка очень живых свойств, общительного характера и тонкого образования. Она не велика ростом и худощава; черты лица ее нельзя назвать тонкими; в наружности ее замечательны особенно выдающиеся глаза, как у большей части членов дома Медичи». И другие, видевшие Екатерину, также отмечали правильные, хоть и несколько грубоватые черты, высокий лоб, большие глаза навыкате, вообще красивое, хоть и не очень привлекательное лицо. Его выражению недоставало уже тогда женской нежности: в нем было больше ума, чем души. И уже в тринадцать лет – величавый, красивый вид, не лишенный приятности, прекрасная форма рук, которую она сохранит до старости. Как и белый цвет кожи.
Наконец, вопрос о свадьбе окончательно решился, и она состоялась в 1533 г. Климент VII дал за девушкой богатейшее приданое: кроме наследственных имений своей матери Екатерина получила 130 тыс. золотых монет, множество жемчуга (о имениях же напомним: мать Екатерины – дочь графа Бульонского Жана и Екатерины Бурбонской. И муж, и жена – представители знатнейших и богатейших родов Франции). Были и другие драгоценные ювелирные украшения, стоимостью во многие тысячи золотых дукатов. Но все равно при вручении всего этого приданого среди французских придворных пополз злой шепоток. И тогда раздался голос кардинала Ипполита Медичи:
– Господа, вы плохо осведомлены, очевидно, о секретах вашего короля. Его Святейшество обещался передать Франции три жемчужины, помимо этих, жемчужины, которые не имеют цены: Геную, Милан и Неаполь.
Конечно, правда, существует разница между обещанием и выполнением, и слова эти не стали реальностью, но иногда и обещания могут иметь большую цену, ибо дающий их громогласно заявляет о поддержке одного лагеря в его борьбе с противником.
Незадолго до бракосочетания произошло одно незначительное событие, в дальнейшем, однако, имевшее серьезные последствия: брат Екатерины герцог Алессандро-Африканец познакомил Климента VII с графом Себастиано Монтекукулли, который незадолго до этого покинул службу императора Римской империи и испанского короля Карла V. Граф ранее изучал медицину, что также пригодилось. Возможно, о том, что происходило на этой встрече, знала и Екатерина Медичи.
Папа предоставил возможность графу прибыть ко двору, где в конце концов Монтекукулли стал кравчим старшего сына короля – Франциска, старшего брата мужа Екатерины.
Что до самой Катерины, то папа усиленно настаивал на том, чтобы они вместе с Генрихом стали фактическими мужем и женой в самый день торжества – ибо обоим было уже по четырнадцать лет, и родственницы Екатерины ручались Клименту VII, что она уже достигла половой зрелости. Папа, боясь возможных хитростей со стороны французов, надеялся иметь доказательства супружеской жизни молодых, но безуспешно. Тогда и была произнесена фраза, приписываемая отцу Екатерины, об умной девушке и возможностях материнства. Папа произнес ее, расспросив перед отъездом новобрачную.
Действительно, болезнь Генриха в течение десяти лет не позволяла иметь Екатерине детей, и лишь после того, как он решился на операцию, жена родила ему десятерых. Подобному счастливому разрешению столь щекотливого вопроса (только представим себе все те шутки, слухи, намеки, что как из рога изобилия сыпались на Екатерину в течение десяти лет – ибо лишь в 1544 г. она родила первенца – что ни в коей мере не улучшает характер, зато способствует возникновению чувства безмерной признательности) способствовала жена сына флорентийского банкира Альбера Гонди, сеньора дю Перрона, жившего в Лионе. Позднее она воспитывала в младенчестве детей Екатерины. Королева же всю жизнь протежировала ее семье (когда умер ее муж король Генрих II, то Гонди не имели на троих и двух тысяч дохода, в момент же смерти Карла IX – второго сына-короля Екатерины – Альбер был первым камергером, маршалом Франции, губернатором, получая по самым скромным подсчетам сто тысяч ливров дохода в земельных угодьях, а в деньгах и движимом имуществе – более восемнадцати тысяч; брат его, Пьер де Гонди, был епископом Парижским, имел еще тридцать-сорок тысяч ливров рентами и бенефициями, а в движимом имуществе – сумму более чем в шестьсот тысяч ливров. Младший из трех братьев – господин де Латур – ко времени своей смерти был капитаном полуроты жандармов, кавалером высшего французского ордена – ордена Святого духа, как и Альбер, и гардеробмейстером. Все трое были членами тайного Совета Короля).
Однако до столь безмерной щедрости было еще весьма и весьма далеко. Пока же Екатерине было суждено претерпеть множество треволнений, из которых она вышла с честью, доказав себе и позднейшим исследователям ее биографии, что она может и должна править странами и народами. Современникам же это еще было невдомек. Позднее, правда, самые проницательные это поняли. Во всяком случае, в анналы истории попала фраза Жака-Огюстена де Ту, историка и автора книги «История моего времени», воскликнувшего в ответ на сообщение о смерти Екатерины: «Нет, умерла не женщина, умерла королевская власть».
Что же до испытаний, о которых упоминалось выше, то их два. Первое – это начало многолетней добровольной кабалы ее мужа: Генрих увлекся двоюродной сестрой своей жены Дианой де Пуатье, женщиной старше Генриха почти на двадцать лет.
Диана родилась в одной из знатнейших семей королевства в 1499 г. Ее бабкой была Жанна де Латур де Булонь – тетка матери Екатерины. Она была замужем за Луи де Брезе, великим сенешалем Нормандии, но в 1531 г. уже овдовела и вскоре после брака Генриха Орлеанского пленила его на всю жизнь. Но, естественно, никто не мог подозревать, что эта связь будет длиться до самой смерти Генриха в 1559 г. (сама Диана умрет в 1566-м).
Таким образом, начало противостояния с Дианой, в котором пятнадцатилетняя девочка-женщина сумела раз и навсегда выбрать единственно правильную тактику, – это первое испытание Судьбы, любящей иногда – так, на всякий случай – перепроверить своих баловней и избранников: не ошиблась ли, мол, я.
Что до второго оселка, на котором выверялся характер Екатерины, то он в смерти дофина, старшего сына и наследника французского короля, старшего брата ее мужа – Франциска. Уже упоминаемый кравчий принца граф Монтекукулли в жаркий августовский вечер подал разгоряченному принцу стакан воды со льдом. Тот ее выпил и почти тотчас же умер. Не было сомнения в отравлении, возникал вопрос лишь – кто стоял за графом. На следствии Монтекукулли сказал, что выполнял волю императора Карла V. Бальзак, отдавший дань уважения Екатерине и смело отвергающий все, что ей инкриминировалось на протяжении столетий, считает, что это так и было, ибо «у Франциска I был план женить своего сына так, чтобы с женитьбой его территория Франции увеличилась». Но все же это, по-видимому, слишком сложная комбинация: для матримормальных планов существуют более простые ходы политического противодействия. Если же прибегнуть к бессмертному римскому посылу «кому выгодно?» и вспомнить переговоры графа с папой еще до свадьбы Екатерины, то, может быть, придется переменить точку зрения по этому вопросу.
Начиная с современников Екатерине Медичи приписывали хорошее знакомство с ядами, чему косвенное подтверждение смерть сыновей и неугодных лиц. Так что вполне вероятно, что смерть дофина – первый, пока опосредованный, опыт в этой нелегкой науке пасьянса живыми фигурками. Что до Бальзака, то его позицию объясняет легитимистская доминанта подхода к истории жизни Екатерины – французской королевы, волна же реабилитаций прошлого века и сегодняшних времен частично находит объяснение в этом же, частично в эпатаже, когда тщатся доказать все что угодно от противного – для привлечения хоть какого-нибудь внимания публики с своим умозрительным построением и к своей персоне (четко прослеживаемый дуализм: известность имеет материальное воплощение). Но не будем все же сбрасывать со счетов современников деяний Медичи – многое делалось на их глазах. Яды же Медичи славились веками, а ведь, как известно, дыма без огня не бывает.
Подобные мысли посещали некоторых лиц, среди которых была и Диана де Пуатье. Все понимали, что отравление приблизило царствование Генриха и Екатерины. Но на Генриха никто и не думал, Екатерина же вела себя безукоризненно, ибо к моменту смерти дофина она была всем известна как обожательница свекра-короля, старавшаяся всегда быть при нем – из-за сильной к нему привязанности и преклонения. Екатерина с достоинством вышла из этого испытания и с достоинством стала наследницей трона французских королей. Возможно, именно тогда она выбрала свой позднейший символ – радугу и слова «Приношу свет и спокойствие». Радуга – это весь спектр красок, в котором каждый волен выбирать себе цвет по вкусу, так же как каждый по-своему понимает, что есть свет и что значит спокойствие. Воистину мудрость, достойная властителей.
Подобное отношение к королю она сохранила и после того, как ее муж стал дофином: Франциск I был по-прежнему ее единственной надеждой, ибо Диана безраздельно царила в сердце Генриха и чувствовала себя там настолько уютно-привычно, что даже дерзала соперничать не только с Екатериной, которую она побивала по всем статьям, но даже и с самой герцогиней Анной д’Этамп, фавориткой Франциска I.
Двор начал раскалываться на две партии – на партию госпожи д’Этамп и партию жены сенешаля (так с иносказательным напоминанием звали Диану в царствование Франциска I). Герцогиня д’Этамп поддерживала Кальвина и протестантов, де Пуатье – от противного – вместе с герцогами Гизами стояла во главе католической партии. Сам Франциск I долгое время поддерживал протестантов – для ослабления Карла V, но потом начал яростное их преследование. Диана же выдала обеих своих дочерей – одну за Робера Ламарка, герцога Бульонского, принца Седанского, другую – за Клода Лотарингского, герцога Омальского, что, вкупе с католической ориентацией, укрепило ее позицию. И хотя она была старше д’Этамп на девять лет, и дофин – не король, она чувствовала себя настолько уверенно, что позволяла себе простительную слабость – периодически портить настроение Екатерине, которой, чувствуя собственную неустойчивость, приходилось лавировать между этими двумя львицами и предпринимать перманентные жалобные и унизительные попытки демонстрации нежнейшей дружбы с ними обоими. И плюс – постоянная, неотступная слежка за ней Дианы.
Ведь Екатерина до сих пор не могла родить, и естественно, что двор, не смея даже подумать о доминирующей вине здесь Генриха, всей своей тяжестью обрушился на Екатерину. Конечно, почти все прекрасно понимали, в чем дело – шила в мешке не утаишь, да и Диана, несмотря на многолетнюю нежность Генриха, детей от него не имела (а уж о ней, теще таких людей, каких мы называли, никто не мог сказать, что она бесплодна). Но этикет есть этикет. Так что взойди сейчас Генрих на престол, он имел прекрасный повод для развода – ибо наследники монархов под особым попечением провидения, и церковь всегда шла навстречу монархам в подобном случае. С другой стороны, Диана своим умом дошла до афоризма, который папа Климент VII подарил своей родственнице. Поэтому пожелай Екатерина воспользоваться данным способом прибавления королевского семейства, у ее мужа не осталось бы для возможного будущего развода единственного аргумента. Так что Диане был, как наиболее вероятному кандидату в жены Генриха-короля, если паче чаяния он захочет поменять свою судьбу, прямой резон следить за нравственностью своей соперницы, ибо если бы это все же произошло, бастард стал бы наследником королей – аргумент, таким образом, не только личного, но и общественно-сословного характера.
Дабы закончить линию о взаимоотношениях двух этих неординарных женщин – Екатерины и Дианы, – заметим, что подобное положение дел с наследниками Генриха разрешилось в конце концов в наилучшем (для Франции, а уж как для жены и фаворитки – судить не нам) смысле: дофин решился на операцию, и у него с Екатериной родилось несколько детей. Диана же, перевалившая к моменту бодрости своего долголетнего друга на пятый десяток, не стала шокировать общество прибавлением в своей неполной семье. Хотя и ей досталась ее доля пирога, ибо она буквально пережила вторую молодость, получив от Генриха столь необходимые в подобном возрасте подтверждения его пылкой любви.
В конце концов привыкаешь ко всему. Застарелая ненависть сродни ностальгии: кажется, лишись своего антипода, и чего-то не будет хватать. Во всяком случае, и так – а не только всегдашней осторожностью, ставшую второй натурой – можно объяснить ответ Екатерины, которой маршал Таванн, поверенный в ее делах, преданный ей, с апломбом предложил:
– Хотите, я отрежу вашей сопернице нос?
Разговор происходил уже в царствование мужа Медичи – Генриха II. В принципе положение Екатерины было в достаточной степени прочным, маршал брал всю ответственность на себя, да и король вряд ли бы стал особенно страстно инкриминировать жене проступки собственных подданных – можно было в крайнем случае и откреститься, и даже выдержать временную опалу, зато с соперницей было бы покончено раз и навсегда. Но тем не менее Медичи отказалась:
– Ведь сей поступок нанесет Вам вред.
– Я знаю об этом и с радостью пожертвую собой, дабы угодить Вам.
Поняв, что аргументы эгоизма не повлияют на Таванна, королеве пришлось прибегнуть к иным, более эфемерным, но все же – хоть и с большим трудом – она отговорила маршала от подобного доказательства его преданности к ней.
Разговор происходил после 1547 г. – с этого года по смерти Франциска I на французском престоле восседал Генрих II. По его воцарению влияние Пуатье стало безраздельным. Тут свою роль сыграло и то, что Генрих оказал доверие Коннетаблю герцогу Монморанси, которого с Дианой связывали близкие отношения (так что, может быть, доверие – следствие этих отношений). Но как бы там ни было, герцог, которого Франциск I завещал держать в немилости, был главнокомандующим всеми силами государства, что для феодальной эпохи весьма и весьма весомо.
Кроме этого Диана ловко воспользовалась проснувшимися мужскими силами своего царственного любовника – Екатерина, начиная с 1543 г. ежегодно рожала, Диана же от подобной чести уклонилась, и поэтому не было ничего удивительного, что король все время проводил с ней.
Генрих слушал советы: Дианины – всегда, Екатеринины – иногда, в те редкие часы и минуты, когда они оставались наедине. Именно в эти редкие часы Екатерина говорила с мужем не о чувствах, не о сопернице в безумной надежде изменить ход событий, а о политике, посвящая его в хитросплетения флорентийского двора, исповедовавшего принцип «разделяй и властвуй» и стравливавшего знатнейших людей государства. Именно это – ради спокойствия трона – хотела внушить Екатерина мужу – необходимо его управлению. Иначе вельможи, все как один процветающие при короле, могут и объединиться. Что в случае новой тенденции король объективно ослабит и роль своей фаворитки, Екатерина мужу считала возможным не говорить.
Вскоре королева начала новую интригу, решив вывести род герцогов Гизов из партии Дианы. Но Гизы, как и Диана, были ревностными католиками, так что Екатерина, спокойно относившаяся к вопросам веры (этому способствовала традиционная утилитарно-политическая политика дома Медичи и то, что она посмотрела на Рим изнутри), в данном случае не могла придать их намечавшимся расхождениям остроту, которая бы явилась непременным следствием религиозной розни. Однако королева имела дело с достойной противницей – Диана в свою очередь начала заигрывать с Гизами, выдав дочь за герцога Омальского и – как ходили весьма упорные слухи – сдав крепость своей добродетели галантному кардиналу Лотарингскому.
Когда умер муж и на престол вступил ее первенец шестнадцатилетний Франциск II, она думала, что теперь-то пришло ее время: королевство будет жить ее волей. Но она ошиблась. Ее сын, болезненный и – скажем мягко – не отличавшийся высочайшим интеллектом, юноша, которого друзья называли «roi sans Vices», а враги – «roi sans Vertu», словом, не самый удачный первый опыт Екатерины и Генриха, был слишком слаб, чтобы, слушаясь лишь мать, действовать наперекор всем остальным. Король был слаб – стало быть, сильны были его подданные. Действительно, к этому времени семейство герцогов Гизов, потомков Карла Великого – проклятие и ужас французских королей на ближайшие десятилетия – усилились настолько, что король в их руках был подобен кукле из воска.
Герцог Гиз командовал армиями, кардинал Лотарингский заведовал администрацией и финансами. В их же руках была и церковь. Екатерина, продолжая играть старую партию близости к Гизам, решила усилиться за счет поддержки Бурбонского дома – родственников, хоть и далекой, правящей династии Валуа. Она выбрала – еще при жизни мужа – для этой цели Франсуа Вандома, видама Шартрского. Вполне вероятно, что поначалу здесь был даже не политический расчет, а инстинктивное движение души, ибо Франсуа в дни правления Дианы Пуатье жестоко оскорбил фаворитку, отказавшись взять в жены ее дочь, которую любящая мать позднее пристроила за герцога Омальского. Диана, мечтавшая породниться с королевским домом, так и не простила Вандому сего кульбита, зато видам приобрел в лице королевы верного союзника. Потом вступили в дело политические расчеты, а затем – и любовь. И опять же поначалу это могло быть сознательным кокетством – дабы хоть таким образом привлечь к себе совсем угаснувшее внимание мужа, но Генрих II был непробиваем, и тогда из ненависти к супругу родилась любовь.
По общим уверениям, видам после смерти короля стал любовником Екатерины. Она, приблизив его к себе, попыталась вместе с ним совершить нечто вроде малого дворцового переворота, убрав Гизов. Но те были сильны и, узнав о подобных прожектах, вырвали у королевы приказ – заключить Вандома в Бастилию. Тот просидел несколько месяцев в тюрьме, наконец был выпущен и в тот же день умер – умерла первая и единственная любовь королевы, холодной и властной женщины, для которой отныне осталась одна страсть – политика и интрига. Что касается смерти видама, то многие – даже почти все – были уверены, что Екатерина, поняв, что ее любовь не имеет политического будущего, сама приказала отравить Вандома, дабы все бывшее между ними осталось навеки в тайне.
Параллельно с этим подняли голову протестанты – родственник Вандома Антоний Бурбон, губернатор Гиени, Ангулема и Пуату и его брат принц Людовик I Конде, за которыми вырисовывалась мрачная фигура протестантского вождя адмирала Колиньи, все же решили дать бой Гизам. Их целью было вырвать Франциска из рук Лотарингского дома, а затем – и низложить его. В этих условиях Екатерина приняла сторону Гизов. Заговор протестантов был раскрыт и гонения на них усилились. Католики вооружались. В этот момент, в 1560 г., Франциск II умер. Власть перешла к другому сыну Екатерины Медичи – десятилетнему Карлу IX.
Теперь ситуация немного изменилась, и регентство Екатерины приобрело более реальные черты. Казалось, тут-то и было бы можно отомстить Диане, но она была уже в прошлом, жизнь же шла с такими сюрпризами, что старые симпатии и антипатии выглядели милым, но уже безнадежно минувшим курьезом. Ибо сразу же после смерти одного сына она заставила написать другого – нынешнего короля – письмо Парламенту, в котором Карл IX писал, что «в рассуждении его малолетства не будучи в состоянии управлять государством один, и вверяясь благоразумию и добродетелям матери своей, он убеждает ее принять на себя дела королевства, при мудрых вспомоществованиях короля Наваррского, почтенных и знаменитых особ, составлявших совет покойного короля». Екатерина в этот момент начала поддерживать протестантов, ибо опасалась усиления Гизов – защитников католичества, – которые могли вообще уничтожить королевскую власть. Этим она еще раз доказала, что для нее религиозные вопросы вполне подчинены вопросам политическим.
Между тем пламя религиозной войны во Франции разгоралось. Идеи протестантов были очень схожи с воплощенными проектами Великой французской революции: обращение духовных имений в светские, изгнание, повышение цен, брак священников, переливка колоколов, введение народного ополчения. Доводы же их, приводимые ими в спорах с католиками, напоминали не только о этой революции, но и о другой – тоже Великой, но совершившейся в октябре. Не удовлетворяясь грабежами и поджогами, они взламывали церкви и монастыри, разбивали статуи угодников, сжигали мощи, раздирали ризы и употребляли их, равно как и церковные сосуды, отнюдь не по назначению, рылись в могилах, выбрасывая оттуда кости. Католики в свою очередь ответили жестокостями. Примирение становилось все менее возможным, противостояние – все более отчаянным.
Борьба с переменным успехом шла до начала семидесятых годов. Екатерина лишь успевала следить, дабы противоборствующие силы-партии пребывали в равновесии, ибо не могла быть реальной третейской силой. Предшествующая жизнь выковала ее характер – холодность и скрытность были его доминантами, и лишь они позволяли королеве-правительнице усидеть на столь шатком сидении, как трон. Книга Макиавелли была ее настольной книгой, его постулаты аморальности политики – ее символом веры. По всей стране она старалась держать шпионов, работающих не на дела веры, а лишь на нее. Она возвела в систему перехват частной корреспонденции, что давало ей возможность действовать, так как ее научили жизнь и книги – действовать, не подвергая себя опасности, оставаясь внешне в стороне от собственных деяний; ослаблять противника, не употребляя силы, как действует хороший борец, используя мощь противостоящего ему же и во вред.
Так же как в политике внутренней, она действовала и в политике внешней: как для каждого реального политика, желающего стоять не на облаках, а на земле, она отвергала в делах межгосударственных принципы и мораль, оставляя лишь пользу и выгоду. Правя от лица слабовольного и истеричного сына, Екатерина и на внешнеполитических подмостках пыталась играть третейскую роль, попеременно блокируясь то с протестантскими державами, то с католическими.
В конце концов она сама запуталась в тенетах собственной хитрости – незадолго до знаменитой Варфоломеевской ночи, устав балансировать между враждующими религиозными группировками и опасаясь, что однажды чувство баланса изменит ей и это будет иметь фатальное следствие для всего королевского дома, она задалась химерической мыслью восстановить религиозное единство на основе примирения обоих вероисповеданий. Привыкшая мыслить реальными политическими категориями в противовес – как ей казалось – абстрактным религиозным, она в данном случае сама впала в грех догматизма, совершенно сбросив со счетов социальную психологию своих подданных, выражавшихся ими в вопросах веры. Иными словами, несмотря на прошедшую незадолго до этого третью сессию Тридентского собора, сформулировавшего католические догматы и четко отделившего апостольскую церковь от любой разновидности протестантизма, она не теряла надежды соединить несоединенное. Применительно к Франции примирение вер могло вылиться либо в веротерпимость, либо в уничтожение одной из сторон. Екатерина сделала ставку на первое, что привело к усилению протестантов при дворе и особенно – их вождя адмирала Колиньи, члена Королевского Совета.
В этом противостоянии с идеями адмирала Екатерина придерживалась идеи, что упрочение религиозного мира во Франции возможно в случае выхода страны из векового конфликта военного противоборства стран с различным вероисповеданием, что позволило бы Франции – а стало быть, и Валуа – претендовать уже с большим основанием на роль третьей силы в межгосударственных делах. Колиньи же, отвергая этот путь, считал единственным условием прочности внутреннего мира, гарантирующего интересы протестантов, войну с Испанией – вне рамок векового конфликта, но тем не менее войну, объективно способствующую усилению протестантского лагеря. Этот план адмирала, несмотря на его тонкость в вопросах внутренней политики, страдал химеричностью с точки зрения политики внешней, ибо фактически обрекал Францию на войну с мощной Испанией безо всяких союзников.
Пока король попеременно склонялся то к аргументации одной стороны, то другой, полным ходом шла подготовка основного действа, должного подтвердить вечный союз французских католиков и протестантов – брак между ближайшим сподвижником Колиньи, сыном Антония Бурбона, королем Генрихом Наваррским и сестрой Карла IX Маргаритой Валуа.
Екатерина Медичи приложила множество сил, дабы брак этот состоялся. Она сама ездила к Генриху, где они приятно и весело побеседовали. Ближе к концу разговора королева спросила с улыбкой:
– Неужели после такого приятного знакомства дóлжно быть ужасным распрям?
– Не можно ли сражаться ныне, а завтра вместе смеяться? – весело отвечал вопросом на вопрос Генрих.
– Ах, государь, – рассудительно возразила Медичи, – сие легкомыслие свойственно мужчине. Но сердце женщины не предвидит с таким равнодушием столь великих бедствий.