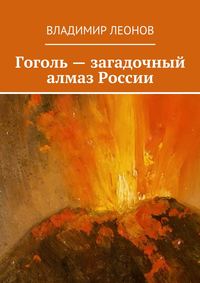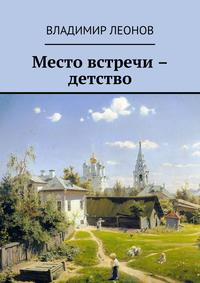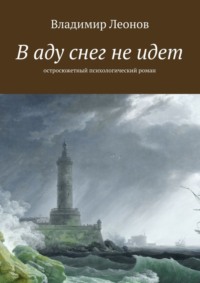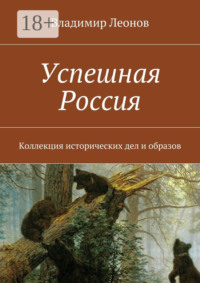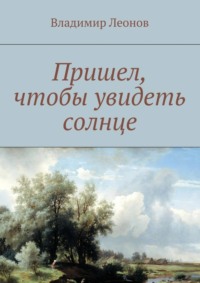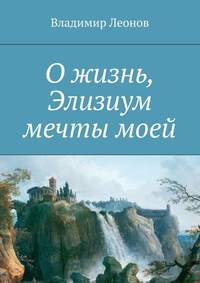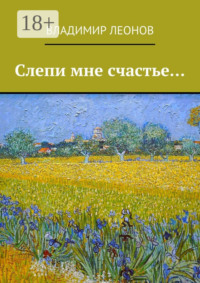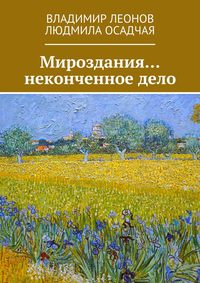Полная версия
Души исполненный полет. Ольга Киевская
Простым языком Киевская может сказать о духовном, а потому трудном. И в этом – скрижаль таланта:
Всю уникальность человеческого бытия вобрала в себя Киевская, всю характерную суть:
И она же – поэтесса, говорившая резко и определенно, разрушая дикое и отрицательное – , – «…», в которой выразилось «сочувствие ко всему человеческому»: «Не обласканная прессой,//Я и бровью не вела» лихой поединщик воинствующей пошлости
Есть в арсенале Киевской стихи – молитвы, искреннее обращение к Богу, они тревожат душу, увлекают неистовой бунтующей силой, пленяющей сознание, обжигающей сердца – ведь поэтесса выражает в них наше высокое время, такое красивое и одновременно трагическое, время искушений и заблуждений. Выражает наше желание и наше стремление разобраться в первопричине полярности мира, замешанной на библейских, евангельских мотивах:
Чрезвычайно полифоничен у Киевской образ «адской силы», воплощенной художественно богато: мятежность и непримиримость – это мильтоновский Сатана; знающий и мудрый – байроновский Люцифер; прекрасный, соблазнительный и коварный – чем не герой Виньи из поэмы «Элоа»; по мощи отрицания – гетевский Мефистофель:
Высокохудожественное, яркое направление в поэзии, в превосходной степени удобное, уклюжее и особенно красивое, как воплощение искрящейся даровитости, по некой странности судьбы имеющей общее с лейтмотивом честолюбивого Лермонтова: «…Страстная душа томится. Идеалы».
Карманный оракул, пропитанный евангельской сюитой Красоты и Милосердия: Живущая с интенсивностью, которую может дать только страсть и зрелость. В согласии с собой, с родственными душами и совестью, «». Склонная к сентиментальным суждениям. Понимающая, что у нас две жизни: первая – дарованная, а вторая – начинается, когда мы понимаем, зачем пришли в этот мир и что у нас есть только одна жизнь. И участь в ней одна: «…ибо я един со всем Человечеством». (Ветх. Завет). Не терзаясь жалким страхом,//Что останусь неизвестной
Самобытная личность, выражающая в себе и вовне, в поэтическом даре, все образы, предпочтения и идеалы нашей эпохи; с собственным цельным мышлением, собственным трактатом судьбы, – « – хромосомным сводом двух «божественных капелек»: духа, сознательно влюбленного в мир, выбравшего библейский концепт мироустройства – и души, мечтающей о простоте, свободе и естественной гармонии: « Променять единым махом //Мир земной на мир небесный», «Пока я в миру, я свет этого мира» Мы – самые прекрасные картины…»
Редкая по своей кристальной яви «честь поэта», о сущности которой кратко, но живо и ярко выразился русский поэт М. Волошин: «… В ». Наглядно отражение – в легенде о великом художнике: глухонемом веществе заострять запредельную зоркость
«Сидя под палящим солнцем, мальчик наблюдал, как молодой человек сосредоточенно откалывал куски от большой скальной глыбы.
– Почему ты делаешь это?
– Потому что внутри спрятан ангел, и он хочет выйти наружу», – ответил Микеланджело».
А после него – в высказывании Г. Лейбница, как ничто иное: « Вечное стремление к новым наслаждениям и новым совершенствам».
О. Киевская вошла в русскую культуру, как поэт тонкой поэзии, поэзии мысли, растворенной в жгучей смеси из ощущений и настроений. Как поэт гармонии – блистательного вальса слов и музыки. Как поэт музыкальности – мелодичного напевного стиха:
Она – против Золотого тельца, которого признают за бога: " С гулливерскою зарплатой,//С лилипутскою душой». «Я в тоске от пересудов»
Стремящаяся сохранить свое своеобразие, лица необщее выраженье, не слиться с ленивым умом толпы, у которой – «» (Е. Баратынский). Несущая безудержный чувственный восторг перед жизнью. Не изменяющая «наперекор судьбе» в «пустыне бытия» «ни музам, ни себе». Поэтесса, которая не «спускается до ремесленничества в искусстве В сердцах корысть и общая мечта »:
Для Ольги Киевской поэзия – это не гимназический курс, а родной дом и мир, тайная земная сказка, в которой она «» и в котором поэтесса фактически существует, повенчана ("…ибо во мне тайны богов» —лат.): желает звездной пылью… надышаться
Поэзия Киевской полна мысли, это философская поэзия, в поэтические образы она облекает лишь то, что было передумано и перечувствовано ею самой. Ее мысль, как пятизвездочная лилия, из которой был рожден Марс, чистая, очищенная от примесей; она, как маленькая точка во вселенной, вспыхивает огненной колесницей Фаэтона, когда Киевскую переполняют глубокие чувства или сильные впечатления. Поэзия Киевской процветает потому, что проистекает от этих первозданных начал в человеке: « Мне ласки шелковая нить// Прошила гладью грудь и шею…» – «Полубог»
Она не отделяет себя от современного поколения, ищет гармонию в эпическом прошлом России, высказывает себя в вопросе о смысле поэзии и полезности ее для людей, оценивает жизнь как щедрый дар Творца, поднимает темы богоборчества и нравственных маяков, ведет непрерывный поиск душевной умиротворенности, восхищается красотой и поднимает культ любви до Денницы, выводит себя за пределы земной обреченности…
Создает стихи, поэмы, баллады, новеллы, эпиграммы, эссеистику – и все вершинное, емкое, со всеми полюсами любви и презрения к бытию, маятниковым колебанием между земным и небесным, проклятьем и благословением:
Легко и непринужденно О. Киевская шествует в кортеже словесной стражи, » (А. С. Пушкин) в артельном сопровождении образов, мастеровая от Бога, Панург лирической души, прожигающий эмоциональным накалом. «благословляя колеи// И рвы отеческой земли
Философ мотиваций. Практик. Волшебница, изгоняющая глянец с витрин неподлинных, возвышающая бесконечно мир Печорина над миром грушницких, не верящая князю тьмы Вельзевулу, властью мечты загадочной покрывая смятенье множеств, верующая в человека, чтящего распятого в безднах Бога и искрометно, по-царски награждая чудесное мирское бытие звуками своей прелестной лиры:
Поразительно как ее эмоциональная субстанция, подсознательное «Эго» создает ворожбу метафорических сравнений, образов и коллизий, буквально впечатывающих читателей в это чувственное полотно, увенчанной «диадемой земного бытия», мерцающей каменьями предчувствий:
Поэзия Киевской – страстная, увлекательная и покоряющая сила, четкая, логически выверенная с акцентом на приобщения к широким интересам времени – – – «…Мой удел таков…//Что сгораю я дотла» //Это следствие. //Рифмы вирус обрела//В раннем детстве я. «Лихорадка»
Она отрицает пароксизмы отчаяния и симулированных страстей, мнимых героев, этаких Грушницких с их наигранностью и пошлостью, сокрушает искусственное гетто, дебри и болотца, куда гонят русскую душу, словно неумытую овцу на убой, бунтует и гневно обличает мнимую праведность «пигмеев зла», которыми так обильна драма жизни и всем сердцем рвется к необычным людям:
Поэтика Киевской – эстетическая и психологическая гармония, в ней живые духовные силы «». Ее поэзия обращена к сердцу, внутреннему миру человека, являет собой тончайший лиризм, протест и гармонию, нежность и силу, она – конспект психологии жизни с ее парадоксами, едкими истинами и горькими микстурами, холодными и радикальными: / чистой породы Почто же так устроен белый свет?// Сосед-богач – в упор меня не видит,// А нищий – мне готов отдать обед!» – «Стеклянная разница»
Она пишет для людей, которые знают, как прикасаться к сердцам других: . Для тех, которых не ломают тяжелые удары жизни, и кто живет через нежные прикосновения сердца. Для которых плод, выращенный в своем саду, слаще плода, добытого в чужом, кто не спекулирует на призваниях, но не спасается от своих обязанностей: « (Клайв Льюис) «Заболела неспроста//Лихорадкой слов» От того, что ты за человек и откуда смотришь, зависит, что ты увидишь»
Кто, допуская словесную инверсию стиха О. Ладыженского, «и в своем протестном состояниистрастным, (своеобразный вариант лермонтовского Демона, радующемуся братству с барсами и волками) презрением к инстинкту стада, человеку лживого мира, выраженному хлестко в древности: « хочет плыть к Итакам и может насмерть стоять под Троями» «гордится Каиновой печатью» – Слабый жмется к толпе, сильный – один, но един».
Да, по моему мнению, на такое настроение души Киевской оказал влияние герой поэмы Лермонтова «Демон», подкрепивший резкие и контрастные мотивы ее стихов и в конечном итоге приведший к протуберанцу эмоциональных всплесков, так пленивших читателей и породившему внутреннюю уверенность Киевской в собственных возможностях и сильных идеалах, что отпечаталось в замечательном стихотворении:
Демаркация яви и реалий у нее не проведена, в «замочную скважину» поэтической феерии Киевской эти стихии протискиваются равными долями, не обделенные женщиной с магнетическими приворотами, способной к примирению и прощению, верящей в чистоту и святость чувств, счастливую любовь. Об этом поэтесса трепетно пишет в стихотворении «На лету»: «солнцезависимой и луноподчиненной»
Позволю романическое отступление и, не скрою, оно навеяно лирическими строфами Киевской о природе…
«Где-то в августе, когда одним прекрасным утром воздух вдруг начинает пахнуть совсем иначе, ты понимаешь: сентябрь наступает на пятки последнему месяцу лета. Солнце уже не обжигает, а словно целует твои плечи, укутывает в мягкий кашемир…
Сизой дымкой тянется вечерняя прохлада, а свежезаваренный травяной чай отдает сладкой меланхолией. В целом ничего не изменилось, ты все так же просыпаешься по утрам, в предвкушении удовольствия завариваешь кофе, только с каждым днем за окном все темнее…
А в памяти всплывают строки греческого поэта Менандра:
И ты чувствуешь, как по жилам и нервам начинает протекать ностальгическая грустинка… И однажды твой будильник прозвонит, ты откроешь глаза и увидишь… ночь. А это значит, что в твоем городе осень. Осень похожа на изысканную болезнь: сначала ты любуешься сменой красок, хватаешь руками листопады, но уже начинаешь чувствовать какую-то нездешнюю печаль. Но чем холоднее и вязче темнота снаружи, тем уютнее становится теплый мягкий свет в квартире. И если лето – это время убегать из дома навстречу несбыточным мечтам души, то поздняя осень – время возвращаться, вспоминать и очаровываться стихами Киевской:
Для Киевской мир большой, сладостный и великолепный, потому что в нем живет воля, пламенеют таланты, возвышаются устремления, воплощаются идеалы и человеческие слабости, воспитанные высокими воображениями. Он приковывает ее внимание, она готова целую жизнь любоваться его красотой. И это восхищение передает по-лермонтовски, в демоническом восклицании:
Она богата опытом, как лермонтовский Демон, она целые века неравнодушно наблюдает человечество в его стремлении к воле и счастью – научилась любить людей сознательно и искренне, и этот порыв до такой степени решителен и неугасим, что поднялся до апогея, идеальной высоты поэтического таланта:
Миросозерцание, такое стройное и логическое в стихах Киевской, без агонии и зловещих предчувствий, не ведущее к распятию и казни – ведь по сути отражает естественное стремление людей к цветущей жизни, к свободе, к сохранению веры в самих себя, к своей личности. В таком мировосприятии, когда мир не превращен в пучину личного произвола и человеку разрешается все то, что не обижает и не оскорбляет других, а поступки проистекают не из отвратительных и фальшивых побуждений – ключ к разгадке таланта Киевской, изумляющей современников звуками свой лиры поэтической:
«Счастливая смелость» – общее поэтическое настроение Киевской, слагающееся из жажды жить с ликованием и жажды творить совершенно и завершенно; чем более зрелым становится талант поэта, тем реальнее выражается это лирическое настроение и аккорд разлагается на более частные, но зато и более определённые мотивы: любовь, нежность, грусть, сострадание, родина, отчий дом…
В мире подлунном поэтесса хочет «грызть землю, как волчонок Мцыричтобы «…»: … впадать в ересь идолопоклонства», , время чувствовать на вкус Слушать дьявольские струны //Лютой лютни Люцифера,// Хороводить с чертом дружбу,//…Завербовать на службу //Огнедышащих драконов…».
Киевская – носитель эллинского мышления. Ее стихотворения наделены разительной силой, потому что создаются с помощью Сивиллы, устроительницы настоящего и предсказательницы будущего, поэтесса размышляет о вечных вопросах бытия, о смысле человеческого существования и в своих субъективных ассоциациях создает палитру образов, подчиненных тайным заветам пророчицы:
Для Киевской мир людей – не «бездушный лик» и не дряхлая фигура безразличия – печатника прижизненной смерти. Везде она видит Тайну. Чудо. Свободу. Душу. Желанная гостья в этих роскошных просторах, где «… у дневной кифары вырвали с корнем струны,//Лишь мотыльки с восторгом бьются о бубен лунный…»
Ее влечет не «в поэзии она ищет или «аленький цветочек» или «лунный вкус» – свой «», тот «колдовской, иррациональный, чтобы пресное бытие окрасить «мечтой манящей и дразнящей» – « биография тела, а биография души», Храм любви страстный непокой», играть с огнем» и «жить на грани „можно“ и „нельзя“».
Щемящие стихи о неразделенной любви, которые у Киевской названы «Звезда под названием „Ты“» – свидетельства трогательной влюбленности, сильных увлечений Киевской:
Поэтическое творчество Киевской способно обессмертить чувство любвикак это однажды сделал М. Лермонтов: , «…удивлённый свет Благословит… С моим названьем станут повторять Твоё»:
Любовь поэтессы становится латентной причиной поэтического вдохновения и творческой свободы. Она помогает ей полнее осознать свое призвание поэтессы, заполнить духовный мир чувствами « высшей пробы».
Лирическую героиню Киевской переполняет противоречивая гамма чувств: нежность и страстность борются в ней с врождённой гордостью и вольнолюбием: « С тобой мне предстоит изведать ад,// Но без тебя я не приемлю рая».
В стихе «Автобусный роман» Киевская сентиментальна, возникает образ девушки, глубоко и искренне переживающей, чуждой тщеславного жеманства, полной жизни, вдохновенья, томимой неожиданно вспыхнувшей страстью: «Это стихотворение было обращено к мужчине, случайно встреченному в автобусе и образ которого, видимо, навек вошел в душу поэтессы, как напоминание одного из лучших дней: Мне сердце опалил его чеканный лик//…Ведь он, как дикий яд, в мои глаза проник».
Женщины на тысячи будущих лет останутся прекрасной грезой для всех мужчин, возвышая мужчину в его собственных глазах при помощи тонкой игры ума и чувств, давая избраннику лишний раз почувствовать своё превосходство и никогда не доказывая, что могут обойтись без его помощи. Они не лишают его тем самым природного свойства быть сильнее. Наоборот – всегда показывая возлюбленному, как много он для них значит, и, подчёркивая это. От этих строк ток крови в сердце убыстряется:
… На брюхе впалом подползу
Чем слабее мужчина, тем ярче в нем проявляется дух противоборства и нетерпимость к достоинствам женщины. Глупый не выносит ее ума. Объятый «эго» глумится над одаренностью. Юродствующий – над женской красотой. Порочный высмеивает ее добродетель. Душевно мелкий – сознательно сокращает у женщины восприятие мира. Несчастный – причиняет страдания. Ненавидящий свою жизнь – разрушает женскую:
И только сильный мужчина способен по достоинству оценить женщину – не обожествляя, не уничижая и не разрушая. Не меняя ее, а, наоборот, помогая ей раскрыть полную и лучшую версию самой себя:
И нет для него большего счастья, когда ловит на себе ласковый женский взгляд, щедрым солнцем благодарности коронующий его. Его привела судьба. Мгновения, которые перевернули всю жизнь. Это его новый день. Новая отрадная и обнадеживающая жизнь – пламенем отваги он выжег свое имя на страницах женского сердца.
Поставив весь мир на колени, он стал Победителем. Его лоб украшает отличительный знак А. Македонского – черная шелковая повязка, подаренная ему Таис, и которую он не снимал во все дни своего земного пребывания:
Киевская с достоинством королевы демонстрирует в стихах свою слабость и нежность, и мужчина понимает, чувствует не только то, на сколько много он для неё значит и выступает для неё земным погостом, но и то, что он становится, благодаря ей, сам ещё более значимым, достойным «быть божеством»: « Без тебя мне и день – полусвет,//Без тебя мне и ночь – полутень».
Ведь на самом деле очень важно и для самой женщины чувствовать изумленный взгляд мужчины на себе, свою слабость, открыть в себе женщину с томящимся ароматом счастья. И любой, даже самой сильной женщине, всегда нужен настоящий мужчина, который будет сильнее её и сможет примирить её с самой собой, вновь вылепить из неё женщину, даже если это не успел Бог. И тогда во всем Мире все будет хорошо, уютно и гармонично:
Киевская понимает, что время слишком короткое, а она «Она не хочет «разменивать последний грош души», не хочет бороться с посредственностью. И хочет она этого, потому что ее душа, «» торопится прорасти, сделав развитие и рост компонентой личного самоутверждения. слишком долго пряталась в пустыне». застигнутая наводненьем чувств
Возникает жанр «новеллестический» – лирические размышления Киевской, в центре которого рефлексия, определенный момент непрерывно идущего самоанализа и самовыражения, лермонтовского психологического осмысления с элементами злой ироничности, пугающей интонации. Поэтесса подробно детализирует, как хронометраж выстраивает, раздумья о горькой судьбе человека с насыщенным духовным миром.
О. Киевская сумела отрешиться от суетности, воспарить, взглянуть на реальность, ощутить все волшебство сущего, и прозреть предстоящее, как томительное и загадочное ввиду того, что субъективные ассоциации у поэтессы наполнены индивидуальным художественным лекалом, импрессионистической манерой подачи лейтмотивного образа:
Это именно то состояние и то проявление энергетической силы, безбрежней энергии, рождаемой в лаборатории Мефистофеля, того предела воли и свободы, названного Ф. Ницше Зевсовой религией, а у Киевской – поэтической казной: « : Моя казна – на стыке двух веков»
Она не хочет быть на стороне тех, кто накачивают «Эго». Она не может терпеть манипуляторов, либералов и оппортунистов. Ее беспокоят завистливые люди, «калики вертепа», и «сморщенные эльфы», которые пытаются дискредитировать более способных, чтобы захватить их позиции, таланты и достижения. Она считает злом отсутствие стыда и совести, то есть внутренней жизни, «чувствительной души»: «– так Лермонтов произнес однажды. Мой идеал – совесть…»
Она – неприятие лжи и лицемерия, призрака, отброшенного на нас Западом, что просто пленяет своими лирическими героями, заставляет склониться перед их силой протеста, веры и любви. И она очень-очень не выносит абсурдных и равнодушных людей. Она там:
Во всех ее стихах – страстный призыв души к деяниям во имя жизни, страстный поиск обновления человека в могучей земной жизни, чтобы тот «… и в аду – задал жару… сатану извел… и в раю – выигрывал в звездное лото…»
Желания, любовь, страсти, то есть те переживания, в которых Киевская находит себя, и таким образом ищет смысл жизни, представляют для нее систему ценностей вне временности, конечности:
Киевская одновременно и испытывает боление и выражает свои душевные порывы:
Внутренние монологи лирического героя способствует раскрытию противоречий самой поэтессы, через которые выражается противоречие жизни вообще. Совмещение конкретного и философского. Такой срез психологической натуры Киевской монументализирован в стихотворении «Да, видно, по натуре – я философ…»
Киевская обнажает в стихах свои сокровенные, потаенные мысли и чувства, имманентно присущие ее смысловому бытию. Выдвинутый тезис тут же подвергается сомнению, скептически переоценивается, мысль становится неоднозначной, противоречивой. Поэтесса пишет стихотворения «в минуту душевной обнаженности», под влиянием эмоций. Но в них она говорит об извечных, органических темах: о любви, о памяти сердца, о дружбе, о прозрениях в прожитых годах:
Душа лирического героя Киевской объята многослойными ощущениями, ищет смысл существования – и… находит. Поэтессе не важны приземленные вещи, ей необходимо высокое оправдание жизни – сделать ее местом приятного пребывания.
Предшествующий опыт и размышления Киевской приводят нас, читателей, к эндогенному, сущему выводу: жизнь нашу со всеми проходящими эмоциями и восторгами, по сути делает «». Радость, восхищение, страсть во всей палитре заполняют душу поэтессы, как «. Ее душа и рвется, и смеется, «», с Богом говорит о путях и дорогах Судьбы: лишь то, насколько ты сопротивлялся// …Насколько ты в душе своей свободен,// Чтобы… противостоять моллюсков их жемчужный груз» Творит миры отменные
Богатство ее творчества – подобно сокровищам пещеры Аладдина из арабской сказки. И оно отрывается лишь тогда, когда понимаешь, что творчество О. Киевской есть соприкосновение с Солнцем, Небом, Творцом. Об этом счастливом уделе поэтической судьбы мы читаем у Пушкина:
«Ум человеческий имеет три ключа, все открывающих: знание, мысль, воображение и – все в этом» – столетием позже подтвердит Р. Ролан.
Некая общность, которая по странности бытия теперь проявляется в жизни О. Киевской, как у великого мастера слова: – «Мое имя принадлежит России». Единая линия судьбы мирянки России, «Властительницы дум современных» на ладони истории русской словесности (Пушкин. Лермонтов. Ахматова. Цветаева…).
Своим претенциозным стремлением к максимально полному, исчерпывающему воплощению авторского мировосприятия со всем корпусом сложностей и противоречий, Киевская несет потенцию целостной личности, воплощающей даже модель мира, меняющийся мир и меняющееся миропонимание. Верящей в жизнь, как святая верит в чудо, паства – апостолу, а весна – лету. Дарящей своему почитателю золотой сон среди весны, нежный и светлый, и сказку, добрую от начала и до последнего.., раскрашивающая нашу жизнь прекрасными поэтическими красками, идиллическими, романтическими, возвышенными:
Сформулируем кратко, но содержательно . Возьмем в помощь мысль Герцена, считавшего, что поэты изображают в своих произведениях «патологию собственной души», и выразим духовную лоцию поэтической натуры ее личным кредо, отлитым афористично: «Как бы повторяя рефрен П. Когана: – Киевская вся в поисках гармонии, идеального, пусть и миражного, невозможного Я не хочу пожизненной Голгофы…// Лелею я возмездие, не месть».
Она не представляет мир как сбор абстракций, лишенных души, чувств. Контекстуальный способ развертывания лирической мысли поэтессы отвергает плоский и холодный, как амеба, позитивизм, превращающий весь живой, одухотворенный мир в пустоту, и идеализм Гегеля, представляющего мир в умственных, отвлеченных категориях, не свил гнезда: « Вечность сосет со вкусом звезд молодую мякоть.//Девственность ночи будто выдана на закланье».
Экспрессивную, мятежную силу Киевской можно подчеркнуть словами Печорина, вложенные в уста героя ее любимым поэтом Лермонтов ым: «Нет, я бы не ужился с этой долею! Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойного брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится».
Поэтесса и природа связаны между собой глубокими, внутренними нитями. Цельность, синтез мира природного, с одной стороны, и феноменологическое «Я», человеческое – с другой стороны» – восклицал Тютчев, и такая воздушная прозрачная оболочка покрывает «косточку разума» Киевской – стихи. Она дышит заодно с природой: . «Все во мне, – и я во всем
«– писала бабушка Лермонтову. А разве читатель стихов Киевской не отнесет это высказывание на счет поэтессы!? Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные… Стихи твои я больше десяти раз читала»,
Мышления поэтессы, которая наблюдения за явлениями внешнего мира рефлексируя, увязывает с движениями своей души, и в этом импрессионистическом порыве, в кольцевой чувствительной зарисовке читатель вдруг начинает приходить к кардинальным философско-психологическим обобщениям: оказывается, что счастье заключено в мгновениях гармонии, когда ты чувствуешь единение с миром и людьми, когда рядом есть живая душа, родственная твоим настроениям и ощущениям:
Ее лирическая героиня – это современная «княжна Мери», обаятельная в чистоте своих чувств, полная потребности любви и нежности…
Это мир, в котором все меняется местами, из которого выхватываются отдельные блики, мир намеков, недосказанности… Образ лирической героини, часто воспеваемой Киевской, с одной стороны, подобен образу «Орлеанской девственницы», сначала созданному Жаном Шапленом, а затем – классиком вольнодумства Вольтером («Орлеанская девственница» в молодости была одной из любимых книг Пушкина, он подражал ей в «Руслане и Людмиле», начал её перевод, а впоследствии посвятил «преступной поэме» своё последнее произведение), с другой – ассоциируется с Маргаритой из «Фауста» Гете, образ которой был перенесен Булгаковым на страницы «Мастер и Маргариты», а также является обработкой фольклорных мотивов, и, несомненно, связан с ворожеей и пророчицей Сивиллой, кормящей грудью дитя с именем «Земля» и с волшебницей Медеей, которая помогла Ясону овладеть золотым руном, и с героиней «Русалки» Пушкина, бросающей вызов враждебной стихии.