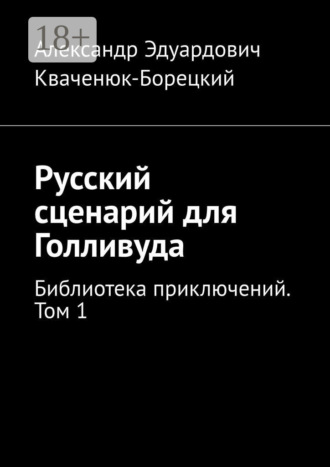
Полная версия
Русский сценарий для Голливуда. Библиотека приключений. Том 1
Надо сказать, с самого раннего возраста отпрыск Фармера доставлял ему немало хлопот, пытаясь во всем подражать родителю. Уилки действовал бессознательно и, поскольку воспитанием сына Уильям совершенно не занимался, едва ли, тогда понимал, что это было для него, пожалуй, единственной возможностью сформировать собственный, почти такой же, как и у отца, на редкость настырный характер. Так, например, Уилки не был бы самим собой, если бы в шесть лет отроду не стянул револьвер из-под подушки у спавшего Уильяма… Затем произошло следующее… Неприметно для крикливой мамаши Шарлотты, которая часто драла ему задницу и за дело, и тогда, когда у нее было просто плохое настроение, он вышмыгнул за дверь ранчо, с виду походившее на вместительный двухэтажный сарай. Окаймив его с угла, баловник, как заправский ковбой, вперевалочку направился к изгороди. Он важно выпиливал по фанере, слегка ссутулившись, и, держа оружие за рукоять. Оно было вложено в кожух на перевязи, перекинутой через плечо мальца и при каждом шаге звучно побрякивало, ударяясь о его голень. В этом, впрочем, как и во всем остальном, Уилки также изо всех сил старался походить на Уильяма. Правда, тот чаще всего палил прямо с крыльца, чтобы отторгнуть бесчисленных ворон, упорно осаждавших огород вокруг его ранчо. Для острастки, пришлепнув одну-другую, он, вполне довольный собой, чехлил еще дымившийся ствол. Кобура болталась на его ремне как маятник и свисала чуть ниже пояса. Ежедневная пальба скуки ради для Фармера была тем же самым, что виски во рту пополоскать. И, всякий раз, мамаша Шарлотта не успевала из дому на крыльцо, чтобы пресечь подобное. Нет, она, конечно же, не считала себя трусихой! Но, когда ни с того, ни с сего за дверью твоего ранчо вдруг бабахали из оружия, так, что рейтузы спадали, тут, и впрямь, заикой образуешься!
– Да, будь ты, мать, и вовсе глухонемой, я, все равно бы, на тебе женился и жил с тобой на нашем ранчо!
В отместку рассвирепевшая Шарлотта, с удовольствием расчесывала бедного Уильяма в хвост и в гриву. Честила его пустозвоном, бестолочью, безмозглым пьяницей, коровьей лепешкой и лошадиной задницей.
– Уж, лучше бы ты и впрямь вместо сэндвича на завтрак собственный язык проглотила! – как мог, защищался фермер от нападок разъяренной супруги.
– Так, ты этого, криволапый скотник, и добиваешься! – никак не унималась та.
Фармеры на своем маленьком ранчо держали лошадь и корову. Разводили кур и свиней. Делали они это на площади примерно в полсотни акров земли. В загоне мирно пасся иноходец, на котором, как это частенько случалось, пьяный в стельку Уильям, едва не рюхнувшись из седла, поутру приволакивался домой. И, как всегда, взбешенная мамаша Шарлотта, сотрясая весь околоток изощренной бранью, костерила, почем зря, никчемного мужа, за ночь спустившего с собутыльниками последние деньги, вырученные днем ранее от продажи молока… Его Фармер сбагривал по дешевке на ближайшую сыроварню, располагавшуюся в десяти верстах от его усадьбы… Столь незатейливым способом, отведя душу, она стягивала Уильяма со смирной лошади, уже привыкшей к подобным семейным сценам. Хватала за вешалку и тащила в дом. Затем оставляла растреклятого пьянчугу на полу в прихожей. И, угостив хорошим пинком под зад, таким образом, на свой манер желала своему благоверному сладких снов. Но Уильям в добрых пожеланиях своей супруги совсем не нуждался. От храпа его дребезжали стекла на соседнем ранчо.
Все было примерно также и в этот раз… До определенного момента… Ничего не подозревая, хозяйка дома колдовала в кухне у плиты, а Уилки разгуливал возле скотного двора, изображая из себя ковбоя. Он целился, то в ворон на изгороди, то в лошадь, то в бабочек, беспечно порхавших над ним и садившихся передохнуть на роскошные цветки. Наконец, умаявшись, он упал в траву. Прислонил ухо к земле. «Так, так, так!» – услышал мальчуган слабо различимый стук конских копыт. Он высунул голову из муравы и увидел всадника на лошади. Ему показалось странным, что тот ехал не по дороге… Единственная в округе, огибая ранчо Фармеров, она вела к соседней ферме. Пустив коня через поле, ковбой двигался с прямо противоположной стороны. Примерно в ста пятидесяти футах от Уилки он слез с лошади. Аккуратно поправил съехавшую ему на затылок шляпу. Неосторожно звякнул шпорами. Потом, крадучись, метнулся к загону. Учуяв чужака, гнедой мерин Уильяма фыркнул. Но ковбой, лихо перемахнув через изгородь, тотчас поспешил к. нему. Он попытался схватить его под уздцы, но тот, привстав на дыбы, кинулся прочь. Конокрад был, как видно, настоящим мастером своего дела. Положив на свою ладонь кусочек сахару, он стал подманивать к себе гнедого. И иноходец клюнул на приманку: уж, слишком заманчивым было лакомство. К тому же, от чужака помимо навоза пахло чем-то, что сильно волновало мерина. Это был запах кобылы, на которой приехал конокрад… Когда он отворил калитку и вывел гнедого из загона, очутившись от Уилки совсем близко, тот, вскочив на ноги, закричал:
– Руки – вверх!
Конокрад с удивлением обернулся на оклик дерзкого мальчишки. Если бы на месте Уилки был взрослый, то его уже не стало бы в живых. Мгновенно выхватить пистолет из кобуры и выстрелить точно в цель – для сельского вора не представляло никакой сложности и особенного риска. Он и, в самом деле, являлся отменным стрелком, хотя и плохим ковбоем. Из тех, что воровали лошадей у фермеров и грабили на дорогах путников и переселенцев. Но Уилки был ребенком. Направив дуло револьвера прямо в грудь конокраду, он играл. Шкодник даже не подозревал о том, кто был перед ним на самом деле. Убивать фермерского сынка никак не входило в планы плохого ковбоя. И он решил позабавить Уилки. Подняв руки вверх, конокрад сделал вид, что жутко испугался.
– О, боже! Только – не это! – жалобно простонал он.
– На колени! – приказал Уилки, грозно нахмурившись. – Руки – за голову!
– Я прошу снисхождения, ропер4! – притворно взмолился сельский вор, после того, как под дулом пистолета выполнил требования, как он полагал, видимо, слегка тронувшегося умом проказника, рост которого не превышал четырех футов. – Я знаю, у тебя – благородное сердце и ты отпустишь меня с миром… Ведь, так?..
Что делать дальше, Уилки не знал. Он настолько заигрался, что не хотел, чтобы все закончилось не по правде, а понарошку. Ведь Фармер-младший непоколебимо верил, что сейчас он – взрослый мужчина, способный принимать ответственные решения. И перед ним – по меньшей мере, настоящий гангстер, а не Том – соседский мальчишка, с которым они вдвоем часто мурыжили подобные сцены. После того, как Том приминал коленями траву, обычно, Уилки «стрелял», не смотря на то, что его товарищ по забавам, рассопливившись, заклинал своего лютого врага проявить милосердие…
Чуток поразмыслив, шестилетний ковбой объявил тоном человека, не терпевшего пререканий:
– Я не могу сохранить тебе жизнь так, как ты перешел черту дозволенного и без спросу явился на чужое ранчо!.. Поэтому… Ты… Ты умрешь, как червяк, ползая у моих ног, и, моля о пощаде!
Плохой ковбой просек, что хлопец чудил, будто он – теперь взаправдашний герой, этакий Сорви Голова, и перед ним не меньше, чем сам Чарли «Счастливчик»5. Крепко сцепив пальцы и держа руки за головой, конокрад не мог быстро выхватить пистолет. Чертов мальчишка, наверняка, выстрелил бы первым. А стоять под прицелом револьвера и ждать, когда спохватятся родители малолетнего идиота, было и глупо, и унизительно для такого авторитетного вора, каким конокрад слыл среди себе подобных.
– Мальчик, ну, поиграли и хорош! Я устал! – миролюбиво сказал он.
– Это – не игра! – запальчиво возразил Уилки, по-прежнему, целясь в опасного чужака.
– Я – друг твоего отца!. Пойди к нему и скажи, чтобы он встретил гостя. Меня зовут Деймон Дабл Ю Уоррен!. Я – из Массачусетса…
И Деймон, хотел уже встать с колен.
– Руки вверх, руки вверх! – как из пулемета, затараторил Уилки. – Друзья моего отца входят к нам в дом через дверь, а не лазят через изгородь!
Сорванец ляпнул это неожиданно для себя. Конечно же, дядя Деймон – друг его отца. Но, раз так, то пусть поиграет с ним еще немножко!
– Ну, вот что, сопляк! Некогда мне тут с тобой дурачиться!
От бешенства у конокрада все потемнело в глазах. Через секунду он был на ногах. В этот миг перед ним спасовал бы и равный ему соперник. Но Уилки мухлевал до последнего. Френд6 его родителя не навредит ему ни с того, ни с сего!.. И, все ж таки, изрядно струхнув, малец непроизвольно попятился назад. Но, то ли, сделал это слишком неосмотрительно и поспешно, то ли ножонки у него нечаянно подкосились… В последний момент он споткнулся обо что-то… И тут случилось непредвиденное!.. Палец сорванца дрогнул на курке… Грянул выстрел!.. Стая ворон вспорхнув с изгороди, взметнулась в небо… С застывшей гримасой изумления и, в то же время, ужаса, на лице, Деймон всем телом гробнулся прямо на Уилки…
…Мать, как безумная, хлопала сына увесистыми ладошками по обеим щекам!.. Приподняв с земли, она так крепко стиснула хрупкое тельце несчастного дитя в своих объятьях, что это, точно чудодейственный эликсир, вскоре привело его в чувство. Открыв глаза, Уилки вдруг с удивлением обнаружил, что на земле, совершенно не двигаясь, с кровавым пятном на груди распростерся тот, кто еще недавно, волею каверзного случая оказавшись на месте соседского Тома, на короткое время стал его товарищем по детским забавам. И поначалу все, как будто бы, шло, как надо… Но потом…
– Мама, – слабым голосом спросил Уилки. – А почему дядя Деймон не встает? Он – что, спит?
Шарлотта во все глаза смотрела на сына. Слезы радости блестели у нее на ресницах.
– Спит, – с тихой грустью в голосе ответила она.
– Так крепко, что нас не слышит?
– Очень крепко, – снова ответила Шарлотта.
– Мама, – прошептал Уилки. – А, правда, что дядя Деймон – друг отца?
3
Артемьевой Любовь Гавриловне присудили семь лет лагерных работ, но это ее мало огорчило. Главное, что ее ребенок будет с ней до тех пор, пока ему не исполнится три года. Освободившись, законная мать заберет сына из детдома. Но – куда именно, пока что не знала. У нее не было ни собственного угла, ни перспективы иметь таковой в будущем. Как ей казалось, давным-давно… Да, давным-давно она жила вместе с отцом и матерью в деревушке Сосновка. От рассвета до заката родители работали в колхозе. Люба училась в школе. А, когда закончила десятилетку поехала в город. Поступила в учебное заведение, чтобы приобрести профессию геолога. Ей все равно было, где ума набираться. Нищая и лапотная деревня опостылела. Надоело молча наблюдать, как спивался отец. Как под пьяную руку он методично избивал мать. А – после, та старательно подбеливала мукой темные синяки на лице…
Каждое лето бабушка Екатерина Павловна Артемьева привозила в Сосновку младшего сына Елизара на поправку. Молочком отпаивать. Елизар Артамонович, младший брат Гаврила Артамоновича тоже воевал. Но старший пришел с фронта целехонек, а младшему не повезло: лишился обеих ног. Так и прокатался в инвалидной коляске всю оставшуюся жизнь. Хотя хата у Артемьевых была довольно просторная – четыре комнаты, большие сенцы, веранда, к тому же имелись банька и огород, частых гостей там не особенно жаловали. Софья Паладьевна, жена Гаврила, напрямки выговаривала мужу:
– Опять горькую, вместо молочка, хлестать будете, черти!
– Цыц, баба проклятая! – тут же приструнивал Гаврил Артамонович норовистую супругу. – Много ты понимаешь в мужском товариществе.
– Какой же он тебе товарищ? Он – твой младший брат! Вдобавок, калека!
Жаль его было Софье Паладьевне. Да, только употреблял он самогона не меньше с виду благополучного во всем Гаврила Артамоновича. Поворчав немного для порядка, на то, что братья страсть как любили выпить, вскоре хозяйка угомонялась. По приезду Елизара Артамоновича вместо одного мужика охотно кормила, поила и обстирывала двоих. В своем рвении она походила на добрую няньку. К ночи по очереди перла на себе, точно вязанку дров, напившихся в усмерть братьев, каждого – до его кровати. Иначе они кочемарили бы прямо в кухне, за столом. Но, прежде, вынимала у них изо рта дымившиеся папироски. За исключением редких случаев, когда Артамоновичи не забулдыжничали вовсе, подобное повторялось, почти что, каждый вечер. Только, что сказками и песенками колыбельными Софья Паладьевна их не тешила. Да и кому бы они были нужны? Может быть, еще довольно молодую женщину заводило то, что Елизар Артамонович почти на десяток лет был младше ее мужа. Хорош собой. И, если бы не увечье, то за завидного жениха вполне б сгодился. Когда он пялился на Софью Паладьевну, щеки ее невольно розовели. Гаврил Артамонович как будто бы не грузился этим. Возможно, для него и его супруги не являлось новостью, что калеке требовалась женщина, чье плечо пришлось бы ему подстать. Да, только, разве, мед было за убогим? Какой дуре набитой – идти за него резон?
– А – что, Елизарка! Давай, мы тебя поженим! – не раз то ли в шутку, то ли всерьез предлагал Гаврил Артамонович брату. – Вон, у нас в деревне, сколько добра этого зазря пропадает!
Но всякий раз Елизар Артамонович ссылался на то, что он, мол, еще для этого не созрел. Не нагулялся вволю. Да и ни к чему. Сам – без харчей. Зубы – на полку. А тут – еще один рот! Калека, казалось, всячески чуждался темы насчет собственной неполноценности. Как будто и впрямь был вполне здоров и с виду казался ничем не хуже других фронтовых мужиков. Не канючить же ему, каково это – без ног? Нет, таких, как он, конечно же, было много. Еще больше – тех, кто вообще не воротился с войны. Елизар Артамонович успокаивал себя, что принял муки за Родину, чтоб другим жилось по-людски. Но хорошо ли они жили? Если так, то почему он не радовался за них? И даже, завидуя Гаврилу Артамоновичу, прекрасно понимал, что его благополучие, которым тот, порой не скрывая этого, кичился, лишь кажущееся! Видимо, рядом с ним, калекой, самооценка старшего брата в его собственных и глазах супруги заметно поднималась. И тогда все вокруг ему виделось в несколько более светлых тонах, чем это было на самом деле…
А однажды ночью предутреннюю дремоту маленькой Любе померещились голоса в комнате за стенкой, точнее, перегородкой из досок, залепленных штукатуркой, где гостевал и укладывался на ночь Елизар Артамонович. Потом – всхлипыванья. Ворочаясь с боку на бок, она с остервенением пучила зенки во тьму.
– Ах, бедный, ты, мой! – вдруг отчетливо донесся из-за стены голос Софьи Паладьевны, высокий и грудной. – Рада бы тебе помочь, но чем, не знаю!
– А ты приласкай пожарче! Приголубь, Софьюшка!
По второму голосу, отрывистому и гортанному, Люба поняла, что ночным собеседником мамы был не кто иной, как Елизар Артамонович.
– Не могу, Еля! Не обессудь. Никак не могу! Я люблю Гаврила!
– Ну, так, а я – чем хуже?
– Ничем! Ты – лучше!
– За чем же дело стало?
Потом за стенкой шумно засопели. Заскрипела кровать. Через минуту, другую, а может, и больше все унялось.
Наутро Софья Паладьевна, такая же бодрая и энергичная, как всегда, влажной тряпкой протирала в доме полы, хлопотала у печи. Елизар Артамонович не завтракал, сославшись на нездоровье. Уединившись в своей комнате, он за все утро не вышел из нее ни разу. Люба без конца косилась на мать. Но не заметила в ней ни тени смущения или раскаянья. Софья Паладьевна, как будто бы, и не амурничала с калекой прошлой ночью. А, может, и так ничего не было, и Любе все это только попритчилось?
День за днем в семье Артемьевых все шло своим чередом. Софья Паладьевна была с родными сдержанна и даже холодна. Но зато, как и всегда, активно хозяйствовала. Летом в колхозе работы поубавилось, и в большинстве своем Гаврил Артамонович баклушничал дома. Он, то маялся с похмелья, то лупил самогон на пару с Елизаром Артамоновичем. Последний выглядел заметно оживленнее, чем всегда. Шутил да острил невпопад. Явно с ним творилось что-то неладное. Немногословный, он вдруг – айда анекдоты старшему брату травить.
Мол, собрались за круглым столом Черчилль, Рузвельт и Сталин, чтобы решить, что с Гитлером делать после того, как возьмут его в плен. Черчилль говорит: «Сначала я выжгу ему глаза сигарой, а потом отправлю в Тауэр!» Рузвельт заявляет: «Я переломаю Гитлеру все кости, а потом посажу на электрический стул!» Дошла очередь до Сталина: «Еву Браун я отдам Берии, а Фюрера сошлю на Кавказ. Пусть сначала баранов научится пасти, а потом войну мне объявляет!» Ха-ха-ха!.. Хи-хи-хи!
Листья жухли. Рядили нудные дожди, а братья пьянствовали, не просыхая. Софья Паладьевна не мешала мужикам всласть куролесить. Зато у Гаврила Артамоновича беспричинно чесались на жену кулаки. То плохо прибралась она: в доме – грязи больше, чем в нужнике, то скотину впору не накормила… Все – не так, не по нем! Софье Паладьевне, хоть, из дому беги, до того умаял супруг попреками! Елизар Артамонович давай заступаться за золовку.
– Ну, чего ты, Гаврила прицепился к бабе своей, точно репей – к юбке!
Но это еще больше покоробило главу семейства.
– А ты – кто, здесь, такой? Сиди и помалкивай! Вот когда женишься, тогда и поглядим, каков, ты, муженек будешь?!
– Да, уж, не тебе чета, Гаврила!
– Вон ты как заговорил, калека двадцатого века! – вскипел вдруг Гаврил Артамонович. – Ты, наверно, завидуешь мне потому, что сам ни на что не годен! Своей бабы не имеешь, а перед моей выкомариваешься! Что не так, скажешь?
А Елизар – ему:
– Дурак ты, братец! Дурак!
– Может быть, и – дурак! Только не слепой потому, что вижу, что глаз ты на нее положил! Тоже – мне, Дун Гуан выискался! – нагнетал страсти ревнивый супруг.
– Кто, кто?!
И Елизар Артамонович так саданул аргументом по столу, что опрокинул на пол тарелку с борщом, которого за кураж и ложки не попробовал.
– Ты выбирай выражения, братец! Не думай, что, если я – инвалид, так за себя постоять не смогу!
– Ты ы ы?! Угрожать мне?!
Лицо Гаврила Артамоновича даже исказило вдоль и поперек от кипишу.
– Вот – гад!..
Он схватил со стола пустую бутыль и замахнулся на младшего брата.
– Гаврил! Ты что удумал, Гаврил?!
Софья Паладьевна опрометью бросилась к мужу! Но – поздно!.. Елизар Артамонович, даже охнуть не успев, брыкнулся со стула. Сам весь – в крови!.. Свежевымытые не крашенные половицы под ним тоже тотчас побагровели… Увидев это, Софья Паладьевна громко вскрикнула. Прикрыв рот рукой, вся затряслась от беззвучных рыданий. А Гаврил Артамонович, наполовину протрезвев, сделался как помет тараканий.
– Братка, а братка! – еле слышно одними губами, то и дело, повторял он. – Как же, это, так?! Как же?! Прости! Прости меня!
Он кинулся к неподвижному телу калеки, и, взяв его за отворот рубашки, приподнял с пола и стал трясти, как безумный.
– Брат! Братка! Очнись!
Елизар слабо застонал.
– Живой, живой! Слава богу! – заблажил Гаврил Артамонович. – Мать, твою мать! Скорее – чистую простынь и теплой воды!..
…Через неделю за Елизаром Артамоновичем приехала Екатерина Павловна. Они распрощались с хозяевами, и были таковы. А еще через месяц бабушка Любы прислала письмо. Мол, Елизар Артамонович скоропостижно почил от кровоизлияния в мозг. Екатерина Павловна не похороничала так, как – не на что. Гроб с телом сына свезла на кладбище. Вот и – весь сказ. Гаврила Артамоновича неприятно поразило известие о преждевременной кончине младшего брата. После чего он брался за стакан еще охотнее, и сознательно не высаживался из запоя. Для Софьи Паладьевны это было невыносимо. К тому же, Гаврил Артамонович обвинял ее во всем худом, что, так или иначе, приключалось с ними за их совместную жизнь. Но, больше всего, укорял в смерти младшего брата, как будто бы во время пьяной ссоры именно она нанесла ему увечье, треснув пустой бутылью из-под самогона по голове… Софья Паладьевна по привычке мирилась с тяжелым нравом мужа. Любу же Гаврила Артамонович и раньше не баловал вниманием и лаской. Теперь – и подавно!..
4
Андрей Иванович Барсуков был сильно не в духе. О каком продвижении по службе могла идти речь, когда начальство снова всучило ему дрянное дельце. И он, капитан Барсуков, оперативник со стажем, вместо того, чтобы сажать уголовников за решетку, где ни попадя, шарил заурядного обывателя, все преступление которого заключалось в том, что в один прекрасный момент он взял и, как в омут, канул. Родственников у этого ученого-геолога по фамилии Артемьев не имелось. В чем же конкретно состояла предъява?.. Что-то там у него с начальством не состыковалось. Вот он и дал чаду из квартиры, где был прописан. Не показывался на службе. Странный тип! Такого сорта криминала за всю долгую службу в милиции у Барсукова еще не водилось! О пропавшем гражданине он справился. В кожаной папке лежала характеристика на него с места работы и послужной лист. Но до сих пор Барсуков с ними так и не ознакомился. С горя он едва не нарезался до бесчувствия. «Вон Кудашкин – уже майор! Язвенник, трезвенник! – полемизировал сам с собой Андрей Иванович. – Ничего особенного. Зато службист, аккуратист. К старшим по званию – всегда с уважением. Вот бы кого – в пример!» Но Барсуков – не как другие. По крайне мере, задницу своему начальству он никогда не лизал. Возможно, оттого ему вечно и подсовывали никчемные дела, которые – для карьеры, как дождевая вода вместо масла, в двигатель. Только при мысли о дочке на сердце у Барсукова теплело. Слава богу, было хоть одно близкое существо, которое искренне его любило. И в подлинности этого чувства никто не заподозрил бы ни капли лукавства или фальши.
Наконец, отбросив дурные мысли, и, понемногу придя в себя, Андрей Иванович разослал подчиненных с поручениями. Одного – в «Институт геологии», в штате которого до известных пор числился кандидат наук Артемьев, другого – по месту жительства ученого. К концу дня оба вернулись практически ни с чем. И, все же, выяснив главное: Артемьев занимался поисками золота, Барсуков пришел к выводу, что это и могло быть причиной его внезапного исчезновения! И, возможно, убийства!.. Но что-то подсказывало Андрею Ивановичу, что, ученый – жив. «Как крот в нору зарылся и чернозем хавает! – подумал Барсуков. – Если же нет, тогда, кто устранил Артемьева?.. Имелись и другие варианты… Например, как у нас водится, человека, решив сделать козлом отпущения, то бишь, виновником бед целого коллектива, незаслуженно обидели!.. Зарплату срезали, в должности понизили, нахамили или – еще чего!.. А он, не будь простаком, сдачу – в ответ! Да, такую, что это не особенно пришлось по вкусу руководству института, тотчас усмотревшего в действиях подчиненного нарушение трудового и уголовного кодекса… Хотя в реальности тут все обстояло не так удручающе, как могло показаться на первый взгляд!.. Просто ученого, таким образом, хотели под себя подмять и, вместо того, чтобы, дать ему возможность, ощущая рядом надежное плечо партнера, продолжать неспешно вести хоровод, ни с того, сего, вдруг заставить до одури плясать в присядку!.. Вот он в бега и пустился… И динамики притушил. Что, теперь, его во всероссийский розыск объявлять?.. А, может, кусков на шампур нанизал, и – на дно? Как бы, не так! От капитана Барсукова еще никто не линял, так, чтоб из тех клочьев шерсти потом лыка не связать».
5
Во время последней тусовки в ночном клубе «Русалка» через Милу, одну из своих девушек, Ковалев включил в круг новых знакомых Игоря Максимовича Северкова. Эрнест и Мила вместе учились на первом курсе юридического факультета в университете. Северков был частым гостем в доме Милы. Игорь Максимович и ее отец, чиновник городской администрации были старыми друзьями. У них имелись общие интересы: охота, рыбалка… В клубе тусовались только свои, в основном сливки общества. Обстановка казалась непринужденной, подогретой обилием хороших вин. Музыка, веселье – все располагало к любви, дружбе, новым интересным знакомствам, укреплению прежних приятельских и деловых отношений. Мила, танцуя с Ковалевым плавную и красиво аранжированную мелодию, целовала его в губы. Но она – не во вкусе Эрнеста. Просто – это дань уважения Милиному отцу. Знакомство с ним, а значит и с Милой, было выгодно. Увидев Северкова, девушка приветливо улыбнулась ему. Почти все места в «Русалке» оказались занятыми, и Игорь Максимович не знал, куда притулиться. После танца Мила пригласила его сесть за столик рядом с собой и Эрнестом.
– …Ковалев? Ах, да! Встречался я с вашим батюшкой и не раз. Большой человек! Нечего сказать. Честный и положительный со всех сторон. Ну, а вы, молодой человек, простите, чем занимаетесь? Учитесь?
– Эрнест не привык, чтобы из-за преимущества в возрасте к нему обращались в снисходительном тоне.
– Какая разница?
Ковалев взбаламутил воздух рукой. Тотчас к нему подошел здоровенный бугай.
– Вадик, коньячку! Пока этого хрена, гарсона, дождешься, облезешь!
Через минуту бутылка «Бурбона»7 стояла на столе.
– Ну, за нас!




