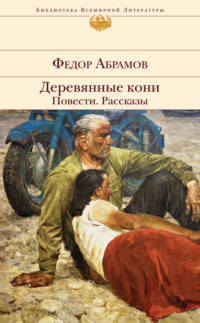Полная версия
Братья и сестры. Книга 3. Пути-перепутья. Книга 4. Дом
Нет, еще ему припоминается, как, возвратясь с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна – век бы не подумал – такую речь толкнула, до пяток прошибло: «Труженик… пример… никогда не забудем…»
А потом до вина дело дошло – что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жахнул первый: не кого-нибудь – деда родного похоронил…
Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны…
Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из запотелого ведра.
Водица была что надо – холодная, утреннего приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место выставила неполного малыша. Лизка?
Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия…
Блаженно, до хруста в плечах, потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется землица – вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк – по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками.
Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстенного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же.
Нет, новое в заулке было – охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.
Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие, и щепа на земле белая.
Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет, – насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай – всегда все сушат да проветривают после покойника.
Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.
2Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: «Зацветали яблони и груши…»
В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.
Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевиота, сапожки хромовые – смотрись заместо зеркала, подворотничок свеженький – белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит.
Ну а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?
У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство – второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил с двух сторон костылями подперся?
Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень…
Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось попервости! Какая-нибудь дубина-бревно под потолок, а сидит в уголку, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили…
Первый день в армии, первые развороты-повороты по-военному… Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?
Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле… И вдруг просиял – его увидел.
– Как фамилия?
Егорша отрапортовал по всем правилам – еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками:
– Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.
– Во как! Суханов, да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.
– Так точно, товарищ старший лейтенант.
– Образование?
– Семь классов. – Егорша всегда немножко округлял для краткости.
– Почерк хороший?
– Хороший, товарищ, старший лейтенант.
– Выйди из строя. Будешь писарем роты.
Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность – все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает.
Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?
Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?
Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел – шаровары на нужном месте, гимнастерка вподруб, подворотничок беленький… Солдат, одним словом.
Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.
Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды – шагом арш!
Раз к ним в ротную канцелярию – он, Егорша, только-только начал в курс входить – вкатывается командир батальона. Злой как черт – язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается – то не так, это не так, а потом увидел его:
– Кем на гражданке работал?
– Шофером, товарищ капитан.
– Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете приказ – всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)
Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули – шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!
Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком так прокочегаришься черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие – как так и надо. Скидал в рот, что тебе сунули, – и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.
Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до скончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском ЗИСе сделать постоянной…
…Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил – ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое веселье ждало – замок в пробое.
Он пошел в магазин сельпо – как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.
Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле – с ходу взять бабу, ошарашить.
Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульку Яковлеву, она, оказывается, была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла, – так разве ей на солнце глядеть?
А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие – схема, как разделывать коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По научному. Только мяса нет.
От магазина Егорша двинул на задворки – на колхозные объекты. Может, там больше повезет?
Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? Неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.
Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор – глазами прикажете хлопать?
Работенка неплохая, углы сшиты – хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран… А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина.
Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом – тут, среди инструмента, нашел: «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!»
Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку «беломорин» – весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.
3К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.
Сперва надулся: что это такое – жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи – и начало, и начало травить.
Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в сорок втором году вот в это же самое время… И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть…
Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!
– Здравствуй, – улыбнулся Егорша.
А вообще-то не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамятья, а дома дядя сделай?
В сенцах у Пряслиных не лучше – всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?
Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерваной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.
Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?
Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын… Его сын…
Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда сходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он – вот он: как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский – у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.
Егорша присел на корточки, протянул руки:
– Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?
Вася нахмурился – с характером мужик! – а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп, к нему, к отцу…
И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась…
К счастью, в избу в это время вошла теща.
Глава вторая
1Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки, а крыша местами так провалилась, что, того и гляди, кого-нибудь задавит.
Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.
Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.
Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?
Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок, – она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии!
– Иди, иди, глупая! – сказала она ей. – Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.
Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами – никого.
И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот – Лизка. В самый темный угол забралась – в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.
– Лиза, Лиза, что с тобой? – закричала Алексадра, обмирая от страха.
Лизка, слава богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.
– Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал – скакать надо от радости… Вставай, вставай!
Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.
– Ну, чего стряслось? Чего не поделили?
– Ни-че-го…
– Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.
– Да не я убегала… Он от меня…
– Что, что? – неподдельно удивилась Александра. – Егорша от тебя убежал? Ну уж, нет, не поверю. В жизнь не поверю!
– Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь…
– Домой не жди? Да когда он это писал?
Александра еще долго так пытала зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.
– Ничего, ничего, – начала успокаивать ее Алексадра, – не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло…
– Да разве не вышло? Я ждала, ждала его – не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне… – И Лиза снова зарыдала.
Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукомойником, причесала.
– А теперь иди.
– Куда? – Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.
– Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризить теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал… Ох, девка, девка… Меня, бывало, муженек-покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак… Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас – у тебя Матвей жив, да господи, до Москвы бы до самой на коленцах сползала… – Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла. – Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится – днем живем…
2Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее – без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло – такая вдруг небесная, ликующая радость хлынула ей в душу.
Домой, домой!
Самой короткой дорогой – мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома…
Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полымем: что сейчас ее ждет? Как встретит Егорша?
Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олегой Тарасовым.
Олега из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олега – власть, в райкоме сидит, но кому не ведомо, что он пьяница зарезной?
Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели «святый Боже, святый крепкий…», а он на всю избу: «Цыц, старые вороны! Нету Бога. С Богом у нас еще в семнадцатом году покончено».
Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам – не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор – уматывай.
Надо остановиться, надо прибрать волосы – куда же растрепой на деревню, на люди?
А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться… Потому что глупые. Потому что головы не слушаются…
Все-таки у воротец перед заулком она остановилась – забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.
По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила – не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла – козой взвилась.
Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец – еще одну меленку мастерит, побольше.
Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп – таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.
– А-а, гулена наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму – для вразумления?
Лиза все про себя отметила – и «маму», и «сынка», и то, как смотрел на нее Егорша, – но все-таки огрызнулась хоть для видимости:
– Хорошему сынка учишь – маму стегать. Мама-то не на плясах была – на работе.
– Разговорчики! А ну марш к шестку – мужики проголодались!
Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится – человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.
3Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени. Еще чего?
Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают – Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.
Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец – кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?
Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось – не налезают больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы набок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубахе.
Смятение охватило Лизу.
Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:
– Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь…
Дробью застучала дресва по стеклам в раме – Егорша бросил: поторапливайся, дескать.
– Сичас, сичас! – И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это – в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.
Платьями она, слава богу, не обижена. Степан Андреянович на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери, сарафаны, кофты, шубы, платки, шали – передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.
И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьянку с матерью не забывала – где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?
Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.
Она выбрала кашемировое платье бордового цвета – и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.
– А-а, вот ты где!..
Лиза быстро обернулась: Егорша…
– Уйди, уйди! Бога ради, уйди… Я сичас…
Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.
Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.
– Не подходи, не подходи… – Лиза лихорадочно обеими руками грабастала на себя платья, юбки.
Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платья. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.
И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платье и не дыша, словно завороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.
Глава третья
1У Ставровых началась великая строительная лихорадка, с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.
Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребятишки, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.
Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову на счастье, а потом разошелся – раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.
Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.
Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.
Лиза, когда вернулась с коровника да увидела – в синем вечернем небе белый конь скачет, – просто расплакалась:
– Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: «Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем»… А тут и не Миша, внук родной поднял…
– Но, но! – басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша. – Разговорчики!
Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекала новая, почти незнакомая до этого роль мужа.
Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были, не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было – это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: «Я не знаю, с ума, наверно, сошла… Все глежу и глежу на тебя и нагледеться не могу…» А с коровника своего возвращается – ух ты! Вся раскраснелась, застыдилась – как, скажи, на первое свидание с тобой пришла…
Заскучал Егорша на седьмой день.
В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зуб в деревне? Вином. А потом – вино не помогло – взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар – там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.
И вот только он открыл, гремя ключом, дверь – увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.
Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек – ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе – рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получился скандал. Получилось черт знает что!
– Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся – рады, что старика схоронили…
Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизу, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.
2Зубы заговорила Марина-стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.
Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли – не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края…