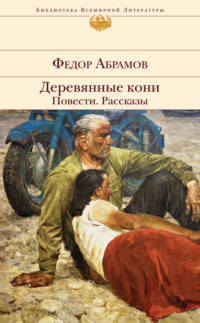Полная версия
Братья и сестры. Книга 3. Пути-перепутья. Книга 4. Дом
– За что? За что? За какую такую провинность?
За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей – как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили – две недели) – и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью – какая же из нее жена?
В кустах жалобно горевала какая-то птаха (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился – лихо наяривал на гармошке…
Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.
Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день – начнут перемывать косточки.
– Слыхала, страсти-то у нас какие?
– Какие?
– Лизку Пряслину Егорша бросил.
– Ври-ко?
– А чего врать-то? Правды не пересказать.
– Да за что бросил-то? Месяца не жили…
– А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать…
И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил…
Нет, нет! Не будет этого. Не будет!
Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.
Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?
Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали по лицу, по глазам… Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.
Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин…
Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?
Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из поскотины – чем они-то виноваты?
Глава восьмая
1Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.
Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:
– Встречайте гостя!
Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились – она нарочно к реке, на склад к Ефимке-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский – чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.
И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила – чтобы без задержки, с жару с пылу подать на стол.
Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана – ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала съездить вместе на рыбалку, при случае посидеть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они – друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь, тогда как?
Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать – это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется: ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.
Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать, – вот до чего у них дошло.
Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше – как же без этого в семье? – но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом – они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.
Теперь они спали врозь.
Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.
Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах – долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя… А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.
Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать – женка присмотрела?
– Нет, – буркнул Иван, – ты и так пособирал.
Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?
Она решила замолвить за Петра словечко – как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?
– Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.
Сказала мягко, необидно, а главное, с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.
Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.
– Смотря только где отдохнешь, – припугнул Иван.
Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?
Хорошее дело сделал Иван[17]: в редком колхозе не высылали людей в Сибирь, и ему тоже предложили парочку нерадивых колхозников командировать в холодные края. Чтобы дисциплину в колхозе подтянуть.
А он: нет. Никакой высылки. Не будет второго раскулачивания в Пекашине. Лучше меня с председателей снимайте. И колхозники радовались: вот какой у нас председатель! Не побоялся против властей пойти. И надо бы дорожить этой славой – самому же легче работать, а он взял да сам же ее и растоптал.
– Ну, довольна? – заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них. – Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина…
Она смолчала, задавила в себе обиду.
2Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть – праздником сияла изба, – и даже над собой малость поколдовать.
Платье надела новое, любимое (муж купил!) – зеленая травка по белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.
В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся, что и сказать:
– Фу-ты черт! Ты не опять взамуж собралась?
Но Подрезов – бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей – не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее – заулыбался.
Анфиса сразу повеселела, молодкой забегала от печи к столу.
– Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? – завела разговор, когда сели за стол. – Где побывали, чего повидали?
– Хозяйство у вас незавидное. А знаешь почему?
– Почему?
Она ждала какого-нибудь подвоха – уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза, – но поди угадай, что у него на уме!
А Подрезов шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей – она только что поставила перед ним большую тарелку, подмигнул, кивая на Ивана:
– А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.
Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька – вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.
– Нет, Евдоким Поликарпович, – сказала она, – не часто нынче едят мясо в деревне. В налог сдают. И мы не едим.
– А это что? Из бревна варено? – Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.
– А это я овцу свою недавно зарезала.
– Для меня? – Подрезов сразу весь побагровел.
Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила – не могла остановиться:
– Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.
– Кто завесил? Я?
– А то нет? – Поздно было уже отступать. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? – Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?
– Есть предложение выпить, – сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.
– Нет, обожди, – сказал Подрезов. – Пускай уж до конца говорит.
– А чего говорить-то? – Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелет, гость набычился – вот-вот рявкнет. – Разве сам-то не помнишь? «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть…» Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели…
Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накипело, зато когда отбарабанила – озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось. Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?
Подрезов не ел, муж не ел – она не глазами, ушами видела это. И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как простуженная, и – только этого и недоставало – вдруг расплакалась.
– Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны на все это глядела… Я ведь тоже бабам так говорила…
– Но здесь не бабы! – отрезал Иван.
Она хотела встать – чего давиться слезами за столом, – но рука Подрезова властно удержала ее.
– Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?
– Вино?
– Да.
– С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все годы в черном теле держал…
– Так уж и держал?
– Держал, – сказала Анфиса. – Чего мне врать?
Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.
– Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?
Вот так именитого-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит, то жар. Ну а как своя, домашняя гроза?
Выпей! – приказал глазами Иван.
Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному: сама коней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.
– За такого гостя можно выпить.
– Нет, не за гостя, – сказал Подрезов.
– А за кого же?
– За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге, фронт в войну держали…
Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват. Сказал бы – стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпей – все или только пригуби? А Подрезов – известно: покуда на своем не поставит, не слезет. «Выпей! Докажи, что зла на меня не держишь…»
И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?) и – будем здоровы.
Минуты две, а то и больше никто не говорил – не ждали такого, и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кроватке зевнул во сне Родька.
Первым заговорил Подрезов:
– Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?
«Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала – он труды мои вспомнил».
– А сам-то ты не знаешь! – сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза Подрезова. – А по мне, дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездишь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно…
– Ты опять про свое? – цыкнул Иван.
– А про чье же еще? – Она и на него глянула во все глаза.
– Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Думаешь, он всему голова?
– А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас выгребаловку делают? Чьи – не его уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят?
– Правильно, Анфиса, мои, – сказал Подрезов. – Только покамест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.
– Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил – и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, Гражданской, уж на что худо было. Гвоздя не достанешь, соли не было – кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло – ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ка на милость, трава каждый год под снега уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить – тоже война виновата?
– Ну, села на любимого конька…
– Села! – с запалом ответила мужу Анфиса. – И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь…
– Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.
– А по мне, дак больно еще хорошо работают. За такую плату…
Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!
Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? «А затем, чтобы человеком себя чувствовать, – ответил ей Петр Житов. – Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь». И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась – ни мужа, ни Подрезова.
Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули – чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.
– Я тебе только одно скажу, Анфиса, – заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. – Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.
– Больному не большая радость оттого, что его сосед болен, – сказала Анфиса.
И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор – вот сколько накопилось всего за эти годы!
Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.
– Куда? – удивилась Анфиса.
– На Сотюгу думаем, – сказал Подрезов. – Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать. – Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: – Чтобы ты его посильнее любила.
– А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! – с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.
Иван, конечно, осадил ее – нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, – но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.
– Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадями.
– Нет, давай уж сами! – захохотал Подрезов. – Ей сейчас и конюшни не найти.
– Мне не найти? – Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу – только стаканы звякнули. – Нет, врешь! Найду!
Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.
3Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти – есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!
А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:
Но я жила, жила одним тобою,Я всю войну тебя ждала…Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака…
И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.
Из коровника выбежали скотницы – кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогтились в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо…
А ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?
Конюха на месте не оказалось – за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!
Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам – лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются, – вывела сперва Мальчика, затем Тучу.
Туча – смирная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает – не дает надеть на себя седло.
– Стой, дьявол! Стой, сатана!
Она взмокла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги – все полетело: и привязь Ефимова полетела – чего со старичонки требовать? – и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.
– Мальчик, Мальчик, куда?
Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.
Только добежала до коровника – Мальчик обратно: тра-та-та-та… Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом – брызгами залепил лицо.
Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.
Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подпругу, попросила Лизу:
– Отведи его, бога ради, лешего, к нам, а я сейчас. Она стряхнула с себя пыль – до слез жалко было нового платья, – заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику – к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.
Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила:
– Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!
А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене туесами да знай ржут, скалят зубы – весело!
Петр Житов закричал:
– Лукашина! – Знает, когда как называть. – Остановись! Дай тормоза…
Не остановилась. И не оглянулась даже.
Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: «Иван, полегче! Иван, дай людям жить!» А они-то сами дают Ивану жить?
Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.
Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?
Глава девятая
1За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.
Поскотина – еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, – справа, вдоль Пинеги. А мызы – по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.
Мыз в Пекашине десятки – они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию – поди-ко запомни все.
Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин – там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша… Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы… – сам черт ногу сломит.
Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.
Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам – то на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.
Мальчик – а Лукашин уступил ему своего коня – был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку. Да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый – то и дело всхрапывает конь от натуги.
Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.
– Грибов много наносил?
– Раза два ходил с женой.
– А я ни разу. Не ел в этом году лесовины от своих рук.
За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по угорам, березовые рощицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.
Стали попадаться кое-где пустоши – заброшенные поля.
Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только «Новой жизни». Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд – ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.
Копанец начался полевыми воротами с засекой, или, по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.
Но была у Копанца сейчас и еще одна примета – грохот жатки, который Лукашин услыхал за километр, а может, и за два.
– Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.
– К Михаилу? Это он наяривает? – Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.
– Он.
– Валяй. Я тоже гляну.
Росстань[18] на Копанец – торная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.
Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне – вот какая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.
Зато уж попадать на этот Копанец с машиной – всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь – человека не держит.
В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.
И вот единственный выход – крепкий мужик.
У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.
Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.
Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходившего из кустов Лукашина, но, когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух – напрямик через несжатый ячмень навстречу.
Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым – снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмурь!
Лукашин понимал: кому не лестно – первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти – отвезти табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.
– Ты совсем как отец стал. Понял? – сказал Подрезов. – Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, – Подрезов крепко кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел, – а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца.
Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.
– Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.
Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые – одним словом, военное поколение.
Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах – поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый – видал виды… Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так – залюбуешься: дерево ходячее! И сила – жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвал, – Лукашин сам видел – даже три поднял.