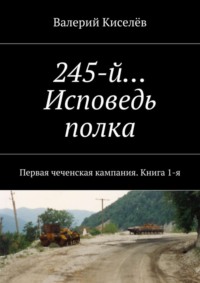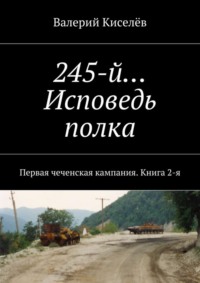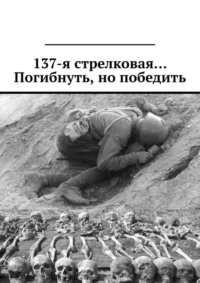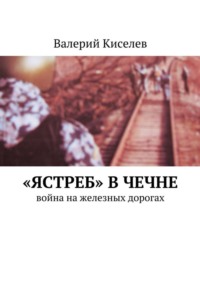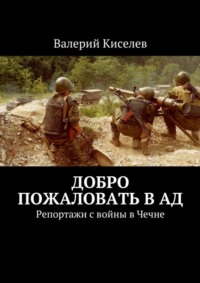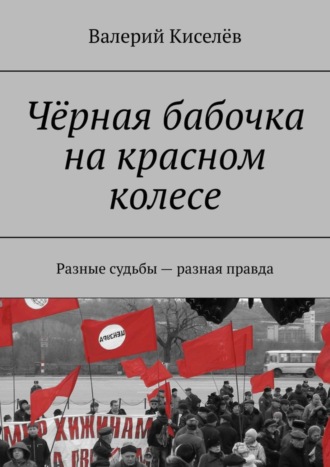
Полная версия
Чёрная бабочка на красном колесе. Разные судьбы – разная правда
В конце 1920 года в Кронштадт по приказу Троцкого прибыло около 10 тысяч новобранцев, преимущественно из районов, где гуляли формирования батек Махно, Лихо и Ангела. Эти хлопцы, хлебнувшие свободы, были брошены в Кронштадт словно специально, чтобы создать там недовольство. Возможно, именно они и должны были стать горючим материалом или тем фитилем, который раздул бы еще один очаг в деле борьбы за мировую революцию. Кто знает, если бы тогда на пополнение в Кронштадт послали рязанских или вологодских парней, безропотных и темных, может быть, и события там пошли бы совсем по – другому.
– В Кронштадтском гарнизоне и на флоте поднялся ропот, что деревня, а с ней и страна гибнет от этой продразверстки, – вспоминает И. Ермолаев, – потом стали говорить, что надо послать правительству требования, чтобы делали что – нибудь.
В феврале 1921 г. остановилось несколько предприятий Петрограда, потому что не было топлива и сократили продовольственный паек. Забастовочное движение шло под лозунгом отмены диктатуры пролетариата и установления власти свободно избранных Советов. Понять людей было можно: война закончилась, пора было кончать с диктатурой и всеми ее атрибутами. Люди устали от трудностей. Нужна была передышка.
– Мы были отрезаны от страны и мало знали, что происходит в это время в Питере, – говорит И. Ермолаев.
Но слухи по Кронштадту ходили. Прибывшие из Петрограда моряки Григорьев и Савельев, освобожденные под поручительство матросов из Дерябинской тюрьмы, где они сидели за воровство, красочно рассказывали ужасные истории: опять зверствуют казаки, идут сплошные расстрелы, рекой льется народная кровушка. Виноваты во всем коммунисты. На линкоре «Петропавловск» появились эсеровские листовки, где предлагалось всем оказывать сопротивление власти.
27 февраля на собрании экипажей «Петропавловска» и «Севастополя» была принята резолюция из 13 пунктов с требованиями к правительству. Составлена она была умно и очень тонко. Никаких страшных вещей в ней не говорилось.
– Мы просили у правительства дать нам только то, что оно само обещало народу, – сказал И. Ермолаев.
За эту резолюцию проголосовало и большинство кронштадтских коммунистов!
1 марта в Кронштадт приехал председатель ВЦИК М. Калинин.
– Он хотел провести митинги раздельно с солдатами и матросами, но мы не согласились, – вспоминает И. Ермолаев. – На Якорной площади собралось тысяч пятнадцать. Говорил Калинин о победах, что моряки в революции были первыми, кто ее защищал. В общем, мы поняли, что он приехал нас уговаривать. Матросы стали кричать: «Хватит нас хвалить! А когда мужиков от продразверстки освободите?» Калинин сказал, что такие наши требования неуместны, и все это не похоже на нас, революционных матросов. Калинин уехал, а уже через два – три дня нас и объявили мятежниками.
Интересно, что за эту резолюцию из 13 пунктов на митинге голосовали практически все. Против было только трое, в том числе и М. Калинин. *
– С 6 марта над Кронштадтом с самолета стали разбрасывать листовки за подписью Троцкого, чтобы мы капитулировали, иначе перестреляют всех, как куропаток. Такая листовка людей особенно оскорбила. А ведь в наших требованиях ни слова не было против Советской власти! После этого из партии стали многие выходить, 99 процентов вышли.
Еще раньше по распоряжению Троцкого была совершенно прекращена доставка продовольствия в Кронштадт. Эту меру иначе как провокационную расценивать нельзя: никаких попыток договориться с людьми, хотя бы постараться понять их, а сразу репрессии. Все в духе того времени, все в духе Троцкого.
– Седьмого марта был первый штурм крепости, – вспоминает И. Ермолаев, – по льду шли цепи курсантов. Бедные мальчики, как их было жаль… За курсантами стояли пулеметы, чтобы никто не отступал.
Эдуард Багрицкий, поэт революции, потом напишет патетическое: «Нас бросала молодость на кронштадтский лед…»
Стреляли друг в друга те, кто совсем недавно вместе сражались за светлое будущее, верили, что оно будет справедливым и чистым. Стреляли по приказу человека, для которого не было преград на пути к мировой революции.
Первую атаку курсантов кронштадтцы отбили.
– А потом начался непрерывный обстрел крепости, – продолжает И. Ермолаев, – с Лисьего Носа, Красной Горки, Ораниенбаума. Постоянно огонь. Но мы не хотели крови, а если бы действительно хотели – у кораблей были мощные орудия, их огонь достал бы и до Питера, и до окружающих Кронштадт фортов. Послали делегацию матросов в Питер – ее расстреляли. Расстреляли летчиков авиадивизиона, которые нас поддерживали. С нами разговаривали только оружием. Не мог восстать Кронштадт против всей России! И в ревкоме у нас не было ни одного офицера, как об этом потом писали.
Да, это подтверждает и официальная советская историография: «Рядовые участники мятежа были резко настроены против бывших царских офицеров». Все члены ревкома были рядовые матросы. Выдавали они себя за беспартийных. Потом, правда, чекисты добились от захваченных, что один был эсер, второй – бывший меньшевик, другой при царском режиме служил сыщиком. Лидер восставших, писарь С. Петриченко, после событий оказался в Финляндии, где установил связь с рядом западных спецслужб, принимал активное участие в работе белогвардейской террористической организации «Русский общевоинский союз». В апреле 1945 года его арестовали органы СМЕРШа. Он умер в заключении, получив 10 лет.
Рядовые участники восстания членов прошлого ревкома, а тем более будущего, знать не могли. Очень быстро, сразу после отъезда из Кронштадта М. Калинина, реальная власть здесь оказалась уже не у ревкома, а у штаба обороны. Здесь уже были и офицеры, предлагавшие действовать активно. Большинство матросов об этом не знали. А вот в штабе Троцкого знали наверняка.
Такой ли уж серьезной угрозой для Советской России был Кронштадт? Наступать оттуда возможности практически не было. Возмущение матросов вполне можно было погасить переговорами. Парадокс как будто бы: как раз в эти дни в Москве начал работать X съезд РКП (б), на нем должны были быть приняты именно те решения, которых и требовали кронштадтцы! Стоило только объявить об этом – и все бы успокоилось.
Но Троцкому не нужно было спокойствие. К Кронштадту перебрасываются наиболее надежные дивизии, создается мощный кулак из 7—й армии под командованием М. Тухачевского. В Кронштадт зачастили визитеры с Запада, стало поступать продовольствие из Финляндии. Активизировались все силы, которые ненавидели Советскую власть, – от Керенского до Врангеля. Рядовые участники восстания этого не могли знать, они и не подозревали, что уже стали пешками в большой политической игре. И сценарий очень простой: через Кронштадт в Финляндию и дальше на Запад идет Красная Армия под командованием Троцкого и Тухачевского. Предлог: мятежникам помогают капиталисты. Хотя это и была всего лишь гуманитарная помощь. Кронштадтцы были поставлены в безвыходное положение. Они должны были стать кровавым мостом к новым победам мировой революции: А если опять война, то о замене продразверстки продналогом, вообще о НЭПе не может быть и речи.
Ранним утром 17 марта начался штурм Кронштадта. В атаку пошли даже делегаты X съезда РКП (б), в операции приняли участие А. Бубнов, К. Ворошилов, Я. Фабрициус, И. Федько, будущий великий пролетарский писатель А. Фадеев.
– Накануне большая часть кронштадтцев ушла по льду в Финляндию, – рассказывает И. Ермолаев, – остались только отряды прикрытия. В нашем отряде из 150 человек к концу дня осталось только 12…
Удалось тогда спастись и И. Ермолаеву, он оказался в Финляндии.
В ноябре 1922 года ВЦИК амнистировал всех бежавших за границу рядовых участников, рядовых повстанцев, им было разрешено вернуться на родину.
– Можно было остаться, уехать в Америку, но у нас была такая тоска по Родине, – вспоминает И. Ермолаев. – Мы были патриоты, жить за границей всегда – не было и мысли. Вернулся, встретили нас чекисты – и сразу на Гороховую, а оттуда в тюрьму на Шпалерную. Держали там до тех пор, пока мы голодовку не объявили – чтобы поскорей с нами что – нибудь решили. Потом приговорили к трем годам лагерей и отправили на Соловки. Там были десятки тысяч заключенных, и не только белогвардейцы, но и крестьяне, священники, казаки. Освободили всех в 1925 году.
Потом И. Ермолаев переехал в Нижний Новгород и всю жизнь работал в строительстве. Писал свои воспоминания о кронштадтских событиях, но понимал, что не скоро еще они увидят свет. Ждал, что правда наконец восторжествует.
Так кто же виноват в тех событиях?
– Ленин и Троцкий, – считает И. Ермолаев, – они отдали приказ о подавлении восстания не разобравшись. Неправильно их информировал и М. Калинин.
Он дожил до времени, когда о тех событиях можно писать и говорить правду, и в этом видит Иван Алексеевич Ермолаев свое счастье.
11.02.94 г.
СТОИТ ЗАКОЛОЧЕННЫМ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Когда Павел Семенович Томаров приезжает в свою родную деревню Волчиху и проходит мимо дома, где он родился, с трудом сдерживает слезы. В этот дом заходить ему нельзя, он давно уже не принадлежит ему.
А дом этот сегодня пустой, с выбитыми окнами, дверь едва держится на одной петле. Одно время здесь был сельский медпункт, сейчас же этот крепкий, каменный, но заброшенный дом числится на балансе сельского Совета.
В апреле 1932 года крестьянин Деревни Волчихи Лысковского района Семен Томаров, середняк, неграмотный, беспартийный, несудимый, имевший на иждивении шестерых детей, приговором народного суда был осужден к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежавшего ему имущества.
Чем же так провинился перед советской властью этот обыкновенный русский мужик?
По наследству С. Томарову досталась ветряная мельница. В 1929 году, еще до образования колхоза, он передал ее в комитет взаимопомощи, безвозмездно. Осенью 1931 года С. Томарова обязали сдать государству 80 пудов зерна. Сдал. Вскоре обложили вторым твердым заданием, Сдал еще 50 пудов. В марте 1932—го потребовали еще 30. У него на всю семью оставалось только 20 пудов. Пришли местные активисты и выгребли из амбара это последнее зерно. Сам же С. Томаров после этого за невыполнение твердого задания по сдаче зерна был осужден как политический преступник. Местные активисты всю семью С. Томарова выселили на улицу. Двое старших детей уехали в Нижний на заработки, мать же, поскитавшись с младшими детьми по чужим углам, вскоре умерла.
Отбыв срок, С. Томаров вернулся в деревню, вступил в колхоз, где и работал до самой смерти. Все это время жил он в какой – то баньке.
Прошло много лет. Сын С. Томарова Павел все это время работал. Жизнь его то выдвигала, то задвигала, сказывалось прошлое отца. Прошел, тем не менее, путь от землекопа до главного инженера крупного предприятия.
Вышел на пенсию, а тут и закон о реабилитации репрессированных граждан подоспел. Решил восстановить честное имя отца, да и дом родительский вернуть, пока он совсем не развалился от советской власти.
Обратился Павел Семенович по инстанциям. Из прокуратуры области пришел ему было ответ, что дело его отца, С. Томарова, в архивах КГБ и УВД не обнаружено. А раз нет дела на человека, то как же его можно реабилитировать? А нет оснований для реабилитации, как же можно возвращать дом?
Павел Семенович, однако, проявил настойчивость, и приговор по делу его отца в архиве отыскали. Все обстоятельства дела подтвердили и свидетели, которые остались в живых. Нашелся документ, подтверждающий факт конфискации имущества. Теперь, казалось бы, дело за малым. П. Томаров написал заявление в сельсовет с просьбой решить вопрос о возвращении наследникам сохранившегося в деревне Волчихе каменного дома. Тем более что отец его был к этому моменту реабилитирован в законном порядке.
И что же потомки и наследники активистов 30—х годов решили? Просьба П. Томарова была отклонена, ибо действующим законодательством не предусмотрено возвращение конфискованного имущества реабилитированным гражданам и их наследникам. Значит, чтобы восстановить справедливость – не придумали мы еще такого закона.
Зачем же тогда, спрашивается, вообще закон о реабилитации, если он изначально рожден половинчатым и неработоспособным?
П. Томаров и его близкие в своих просьбишках к властям сейчас уж не мечтают вернуть хотя бы стоимость хозяйства. Ведь тогда у них отобрали корову, лошадь, овец, инвентарь, всю одежду. Узаконенный грабеж, хуже чем при крепостном праве, – иначе и не назвать тогдашнее отношение советской власти к С. Томарову и его односельчанам (посадили тогда из деревни нескольких таких мужиков).
А ведь ничего не стоило бы администрации и малому Совету принять решение о возвращении П. Томарову его дома. Кого сейчас – то им бояться? Сталина? Нужно просто было поступить по – человечески, тем более что дом – то фактически не нужен этому сельсовету.
24.3.93 г.
ПОМНИ ГУЛАГ!»
«Я выжил назло тем, кто меня посадил», – говорит Мстислав Павлович Толмачев, за плечами которого семь лет колымских лагерей.
На бумаге льгот много
Лет десять назад в списке ассоциации реабилитированных политзаключенных Автозаводского района, возглавляет которую старый колымчанин Мстислав Толмачев, было 26 фамилий. Сейчас – 11. Люди, пережившие ГУЛАГ, тихо уходят из жизни.
Несколько лет назад государство приняло закон «О реабилитации жертв политических репрессий», он должен был хоть в какой – то мере скрасить жизнь безвинно пострадавших.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.