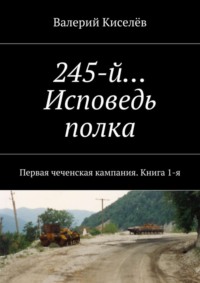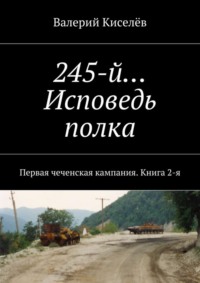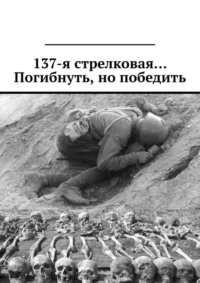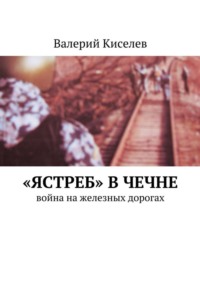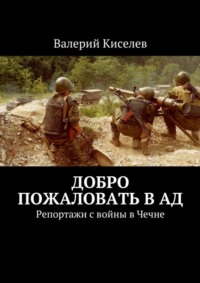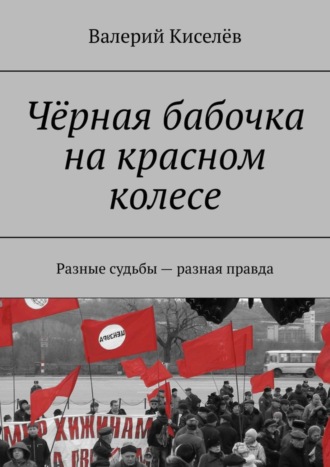
Полная версия
Чёрная бабочка на красном колесе. Разные судьбы – разная правда
– Если уж зашла об этом речь, кто из нынешних политиков в России вам по сердцу?
– Никто. Хотя – Сергей Бабурин. И то – более – менее.
– А к Зюганову как вы относитесь?
– Нормально. Но вот с тактикой его я не согласен: люди и страна гибнут, а он все ищет пути легитимного вхождения во власть.
– Вы бывали в горячих точках. Что вас туда тянет?
– Не могу смотреть на несправедливость. В Приднестровье был в 1992 году, хотел с Лебедем встретиться – он уклонился. В Сербии был два раза. Радован Караджич даже предлагал остаться. Там настоящее православие. Сербию распяли, как Христа.
– Вы и в октябрьских событиях в Москве участвовали…
– Все видел своими глазами, и лужи крови на площади у Останкинской телебашни. Меня лавочники тогда чуть не застрелили.
– А с Солженицыным приходилось встречаться?
– После того как он поддержал расстрел Верховного Совета, я написал ему во Францию письмо. Не ответил. Недавно встретились, но разговора не получилось. Стыдно ему.
– Вас называют писателем – «деревенщиком», не обижаетесь?
– А мы с Распутиным этот термин сделали хорошим.
– Василий Иванович, вы писатель крестьянского корня, скажите, что делать с землей?
– Раздать крестьянам, тогда и из городов их родня приедет. Но техникой надо помогать. А продавать землю нельзя.
– Вы писатель, а какую профессию еще любите?
– В России плотником обязан быть каждый мужик.
– Василий Иванович, вы к рыночной экономике отрицательно относитесь?
– Нет рыночной экономики! Во всех странах экономика плановая, никто в хаосе не живет, это нам навязали худший вариант экономики. Столько раз русскую деревню раскулачивали, что не знаю, сможет ли она подняться.
– Вы написали «Кануны» и «Год великого перелома», а будет ли книга о деревне 40— 50—х годов?
– Сил не хватит. Сейчас пишу, до осени надо бы закончить, третью книгу – «Час шестый», кончаю 32—м годом, когда я родился.
– Почему такое название?
– По Библии в этот час распяли Христа…
– Вы приехали на международный семинар, где собрались люди, борющиеся за трезвость. Почему?
– Шестнадцать лет назад я всех своих одноклассников лишился. Один из сорока двух остался. Кто от болезни умер, кто самоубийством покончил, от несчастного случая погиб, и все из – за водки. За один год у нас в колхозе семь молодых механизаторов умерли. Стало стыдно выпивать после этого. Сейчас я из политических соображений не пью. Для меня не пить – это политическая акция протеста.
– Вы считаете, что ситуация с пьянством в России действительно критическая?
– Алкогольный геноцид – это не преувеличение. А трезвенническое движение живет на энтузиазме, государственной поддержки нет, одни слова. Не согласен с теми, кто считает, что проблему алкоголизации народа можно решить с помощью культуры. Человек уже тонет, а ему говорят: учись плавать, будь культурней. Спивается народ благодаря демократической власти: это было величайшей глупостью – отказаться от государственной монополии на производство и продажу водки. Спаивание народа попало в руки частников. А сейчас мы говорим, как вылечить уже отравленного человека. Он в могилу смотрит из – за пьянства, а мы все его воспитываем. Такого алкогольного беспредела, как сейчас, Россия не знала никогда, дело идет к самоубийству целого народа.
– А что же делать?
– Выход простой: надо запретить производство и продажу яда на государственном уровне. Надо сначала яд ликвидировать, а потом уже воспитывать и детей спасать скорее от пьянства и наркомании. Если бы власть была у нас народной, национальной, таких явлений бы не было. Можно покончить с пьянством. В Орехове – Зуеве в 1905 году первый совет запретил продажу спиртного, и губернатор это решение поддержал. Нынешняя власть сгнила, как гриб, а все равно держится. Плохи ее дела, если она о монархии заговорила.
– А сами вы кто по убеждениям?
– Я монархист. Для нашего народа монархия – наиболее подходящая форма власти. А советская власть – выродилась, она даже не нашла в себе сил защитить себя.
– Как вам наш город, Василий Иванович?
– Хороший город, только в автобусах давка. И когда хотел в Художественный музей сходить, четверых прохожих на Верхневолжской набережной спросил – никто не знает, где он находится. Нашел, а он закрыт оказался. В собор Александра Невского пришел – тоже на замке. Старушка дряхлая на лестнице у кремля спросила денег и научила: «Ты всем – то не давай, дай мне, тебя Бог и послушает».
2.4.97 г.
ЕЩЁ ИДУТ СТАРИННЫЕ ЧАСЫ
На этой неделе нижегородцу Борису Федоровичу Занозину исполняется 90 лет. Уже больше года он каждое утро садится за пишущую машинку и по дням вспоминает свою жизнь. Писать мемуары ему помогает дневник, который он вел с 17 лет.
«При царе была дисциплина»
Борис Занозин помнит себя с пяти лет… Запомнил он и множество рассказов своих родителей, бабушки с дедушкой, поэтому память его хранит события, как он подсчитал, с 1862 года.
На одном дыхании читаются в его мемуарах эпизоды, как он в детстве видел сома, который выдаивал стоявшую в речке корову, или как спасался от волка на стогу сена…
Наверное, мало кто из ныне живущих нижегородцев в состоянии сейчас описать подробно трамвайные маршруты в городе в 1915 году. А вот Борис Занозин помнит их детально. Помнит он и представления театра «Фонарик», и каток внутри кремля, и новогоднюю елку для бедных детей, которую по инициативе Максима Горького устраивали в Кадетском корпусе, где нынче находится филармония.
– Из царского времени помню, что в городе была дисциплина, никакого хулиганства, в трамвае едешь – чистота и порядок. Это мне нравилось. Беспорядка и халтуры при царе не было.
«Мне в жизни ничего не мешало»
– Интересно, в вашей семье верили в Бога?
– У меня отец был сначала почтальоном, потом наборщиком. В Бога он не верил, и я был воспитан в таком же духе. И мама в Бога не верила. Когда мы переехали в Васильсурск и жили там одно время, отец дружил с попом. Он был человек интересный, интеллигентный. Когда была засуха, поп организовал крестный ход. А папа ему сказал: «Вот ты организовал крестный ход – и дождик пошел. А что ж ты раньше этого не сделал?» – «А у меня барометр только сейчас стал показывать на дождь», – ответил ему священник.
После чтения мемуаров Бориса Федоровича остается впечатление, что у него была беззаботная молодость: то и дело танцы, гулянья, девчонки, каток, игры.
Это свойство человека – забывать плохое, или плохого на самом деле не было?
– Мне в жизни ничто не мешало. Есть голова на плечах и талант – всего можно было добиться. В меня все мои ровесники верили. В техникуме учился – создал волейбольную команду, меня избрали капитаном. Я умел все хорошо организовать. Легко находил общий язык со студентами, преподавателями. Но были и опасные ситуации. Когда ездил в деревню Ляписи Лысковского района с агитбригадой, меня хотели убить, потому что я был комсомолец. Девчонок в этой деревне поп тащил в церковный хор, а я им сказал: «Если вы пойдете в этот хор, то мы к вам на посиделки ходить не будем». А им очень хотелось, чтобы мы, городские ребята, ходили к ним на посиделки и танцевали. Вот такая была у нас комсомольская работа.
«Я Сталина не боялся…»
– А раскулачивание, репрессии – было это на ваших глазах?
– Это как – то прошло мимо меня. Слышал, что арестовывали людей, и сам в армии перед войной попадал в такие ситуации, что вот – вот меня арестуют, но все обходилось.
– А как же «тоталитарный режим, диктатура большевизма»? Именно так характеризуют сейчас 30—е годы.
– Чтобы в открытую хватали и арестовывали людей – этого я не видел. Из знакомых или родных никого у нас не арестовывали.
Жилось, конечно, тяжело. Хорошо помню голод 21—го года, я тогда ходил в деревню милостыню просить. Наберу котомку хлеба для братьев и родителей – и ели этот хлеб. А такого голода, что вот погибаем, – не было. Нам помогала природа – грибы, ягоды, рыбалка, огород. Когда отец при нэпе был лесным объездчиком, он взял в аренду озеро, и это потом мне нисколько не помешало стать комсомольцем и коммунистом.
– А гонения на церковь, расстрелы монахов помните?
– В церквях, помню, устраивали склады, бывало, что закрывали, потому что Ленин говорил, что религия – это опиум для народа. Но чтобы расстреливать… Такого на моей памяти нет.
– Вы боялись Сталина?
– Боялись его только враги и те, кто против советской власти, отпрыски капитализма. У меня никакого чувства страха не было. Преступности такой, как сейчас, не было. Напали на нас с другом один раз двое жуликов, так мы с ними и сами справились, потому что я был сильный, спортом занимался. Не страшно было по улицам поздно ходить.
За пивом для высокого начальства
Борис Занозин в начале 30—х строил автозавод, работал в его цехах и учился на шофера. Ну кто еще помнит, сколько, например, в 1929 году в Нижнем Новгороде было шоферов? Оказывается, всего 29 человек.
О том, как принимали экзамены на водительские права в первый год существования ГАИ, Борис Федорович пишет в своих мемуарах:
«Я подготовил к сдаче экзаменов группу из поселка Шарья. Приехали туда инспектора квалификационной комиссии во главе с ее председателем Красильниковым. Это старый шофер. Работал ранее в Облдортрансе. Красильникова обычно по имени его жены звали „Варварой“. Он ей во всем подчинялся и часто говорил: „Как скажет Варвара“. Сам он был большой любитель выпить. Перед приемом экзаменов руководство автобазы устроило хороший прием с выпивкой. Красильников, дорвавшись до дармовой водки, так наклюкался, что принимать экзамены не мог и попросил это сделать меня. У меня все курсанты сдали экзамены хорошо…»
Невероятной кажется история, как в мае 1936 года Борис Занозин, когда был на сборах в 17—й стрелковой дивизии, числясь заведующим гаражом ее штаба, ездил искать пиво для приехавших в дивизию с проверкой «всесоюзного старосты» Калинина, маршала Тухачевского и генерал – полковника Кулика. Тогда он из Гороховецких лагерей помчался в Горький – пива нигде нет! Оттуда – в Лысково, разбудил директора местного пивзавода и взял у него два ящика. «Все высокое начальство было восхищено тем, что я привез пиво. А я рисковал разбиться, потому что гнал на большой скорости», – вспоминает Борис Федорович.
«Свою молодость ни на что не променяю»
Потом была война, многолетняя служба в армии на должностях, связанных с автомобилями. Но и после этого даже скороговоркой не перечислить всего, что пережил и испытал Борис Занозин к своим 90 годам. И сейчас он очень переживает за Россию. В курсе всех происходящих событий, смотрит телевизор, просматривает газеты. Кстати, он один из старейших подписчиков «Нижегородского рабочего».
– А то, что сейчас все поворачивается к капитализму, как вы к этому относитесь? Хорошо это или плохо? Советской власти больше нет, коммунизм теперь не строим…
– Возврата назад быть не может, но то, что сейчас происходит, я не одобряю. После войны мы быстро восстановили разрушенную промышленность. О безработице и понятия не имели. Почему победили фашистов? Потому что была советская власть. Нужно было перебросить промышленность в Сибирь, приказ дали – и эшелоны пошли на восток. Зарплату выдавали день в день. Но было с продуктами туго. Колхозам трудно было. А войну – то выдержали – все на колхозах держалось. Не тушенка американская нас спасла, а колхозы. Победили только потому, что власть была в одних руках. А сейчас…
– Если бы родиться снова, вы бы что выбрали – прожить жизнь новую или повторить старую?
– Я бы выбрал прежнюю жизнь. Свою молодость на нынешнюю я бы ни за что не променял.
– А можно ли сейчас России повернуть к коммунизму? Ведь Немцов как – то сказал, что в России уже с коммунизмом покончено.
– Стране нужен лидер, такой же, как Ленин, который мог бы подготовить народ к новому шагу вперед.
На зарядку – становись!
– Что вам позволило сохранить здоровье?
– У меня обыкновенная жизнь трудового человека. Профессий много знаю. Дачу построил своими руками, электричество сам провел. Занимался и столярным делом, всем, чем угодно. А сколько я людям помогал…
Борис Федорович рассказал, как недавно отремонтировал соседке настенные часы, которые не ходили 15 лет. Их ни одна мастерская не принимала. Как сумел, в таком – то возрасте?
– Главное, в каждом деле надо сначала разобраться. Разобрался, почему часы стоят, почему не работают. И тогда приступил. Долго с ними возился, но все – таки сделал.
– А как со спиртным у вас было в жизни, Борис Федорович?
– Водку не люблю. Но без пива или рюмки вина обедать не сяду. Курил до 1968 года, но бросил в один день. Во всем нужна сила воли. Каждое утро, даже сейчас, делаю зарядку. Немного, но потопаю.
И он, 90—летний старик, показал, как делает по утрам зарядку.
На прощанье я спросил юбиляра, зачем он взялся за свои мемуары. Борис Федорович немного подумал и философски изрек:
– Мы ответственны перед памятью наших предков, ибо нравственное чувство есть чувство долга. И этот долг нужно передать нашим потомкам…
22.2. 2000 г.
«А КУРИТЬ Я НАЧАЛ НА ТУРЕЦКОМ ФРОНТЕ…»
Седьмого марта сего года Григорию Даниловичу Полтораку исполняется ровно 100 лет. Век за плечами. Дата такая, что и не захочешь, да вспомнишь, как жизнь прошла. У меня в руках метрика Григория Даниловича, записи в которой сделаны ровно 100 лет назад старинным красивым почерком. А вот одна из первых семейных фотографий, 1914 года, где он, 17—летний парень, в кругу своих родных. Несмотря на возраст, Григорий Данилович сохранил хорошее здоровье и не жалуется на память, цвет лица же – вообще как у молодого мужчины. Естественна, первый вопрос – как удалось сохранить такое здоровье? Наверное, никогда не пил и не курил?
– Курить я начал на турецком фронте.
(А сам вспоминаю, когда же русские в последний раз воевали с турками.) – На каком – каком фронте?
– На турецком. В армию меня призвали в 1916 году, наш полк стоял под Трапезундом. Но потом курить я бросил, снова закурил в Отечественную, бросил, как война кончилась. А выпивал я очень редко, по праздникам. Последний раз – больше тридцати лет назад, на золотой свадьбе.
Григорий Данилович, сделав небольшую паузу, без запинки назвал номера полка и дивизии, в которых служил в первую мировую войну:
– Четыреста восемьдесят девятый Рыбинский, а дивизия – сто двадцать третья пехотная.
– И бои хорошо помните?
– А как же! Один раз пулеметной очередью убило товарищей слева и справа, а я жив остался. До старшего унтер – офицера дослужился. А в Красной Армии – только до ефрейтора. Звание старой армии не признали.
– А детство свое вы хорошо помните, Григорий Данилович?
– Детство было обыкновенное. Дед мой был из Полтавской губернии, отец солдатом прослужил 15 лет и остался в Армении, там я и родился, первым. А всего нас было восемь братьев и четыре сестры. Сейчас я один из них остался. Мама умерла в сорок лет, от гриппа, папа в семьдесят. Закончил я три класса церковно – приходской школы, потом был учеником у немца – краснодеревщика, в Тифлифе. Помню хорошо армянскую резню в 1905 году, много тогда людей погибло. Девочек всех прятали, но русских во время резни не трогали. Армяне один раз закопали в Степанаване сорок турок, но один из них выполз, прибежал к своим и все рассказал. Вот тогда и началась резня.
В беседе принимала участие и дочь Г. Полторака, Валентина Григорьевна, она добавила:
– А потом резня была и в 16—м году, папа тогда находился на фронте. Помню эпизод, рассказанный мамой: турок на коне срубил саблей армянину голову, и тот, без головы, в горячке пробежал еще метров сто.
– Григорий Данилович, а Октябрьскую революцию вы где встретили?
– В Трапезунде. Получили приказ на отход, и наш полк ушел в Севастополь, а тех, кто был уроженцем Закавказья, распустили по домам.
– А в гражданскую войну вы где были?
– Там же, в Армении, в партизанском отряде, с дашнаками воевали. Был ранен в руку. Один раз попал в автомобильную аварию, это когда служил в 209—м полку НКВД, мы в Баку охраняли важные государственные объекты. Это в годы Великой Отечественной. В аварии получил сотрясение мозга, и сердце у меня потом долго болело.
– А 20—30—е годы хорошо помните?
– Конечно. Восемь лет, при НЭПе, работал в артели столяром, потом на мебельной фабрике. И после демобилизации из армии в конце 45—го – тоже все время на мебельной фабрике, последнее время заведующим производством.
– Почти весь Степанаван снабдил своей мебелью, – сказала Валентина Григорьевна.
– Григорий Данилович, а у вас большая семья?
– Трое детей, трое внуков, четверо правнуков, жду праправнуков. Сын – летчик – истребитель, живет в Алма – Ате, дочь – врач, со мной. Один сын умер.
– А вы помните, как со своей женой познакомились?
– Нечаянно. У меня была на примете 14—летняя девочка, но, думаю, пусть подрастет до 16. Сосватали же за другую. Тетя мне говорит: «У нас здесь только две девочки хорошие остались, не бракованные, бери одну из них». Было это в 1921 году. Пришли свататься, а у нее уже другие сваты сидят. Подождали, и мои уговорили отдать Антонину за меня. Венчались в церкви. Жена у меня была очень хорошая, сильная. Ее отец вообще один держал быка за ногу, когда подковывал. Косила она быстрее мужчин. Всех ее братьев взяли на войну, она в доме была за старшего в 13 лет.
– Вы такую жизнь прожили… Какое время было для вас самым тяжелым?
– После войны. Хотя – трудно всегда было. То разруха, то голод. В плохое время я родился. Сейчас оглядываюсь на прожитое и сам себе не верю, что я сто лет прожил. Я как будто недавно родился, а вот уж надо собираться…
– Папа, а разве самое тяжелое время было не тогда, когда вы на Украину в коммуну переехали? – спросила Валентина Григорьевна. – Там, это в 21—м году, начался голод и многие умерли. Кто остался жив – вернулись в Армению.
– Но все же в такой длинной жизни были и хорошие годы?
– Хорошего времени я не видел. Разве что при НЭПе. Тогда мешок муки пять рублей стоил. Было обилие всего. А сейчас – не знаю, как мы будем выбираться из этой пучины.
Григорий Данилович назубок помнит все цены времен Брежнева. Сколько стоила капуста, морковка, картошка. В «L – клубе» можно смело выступать!
– Вы при стольких вождях жили – не хватит пальцев, чтобы сосчитать. При каком из них стране было лучше всего?
– Трудно сказать. Кого ни ставили, все только о своем животе думали, но не о нас. Сталинцем я не был никогда, хотя до последнего на партсобрания ходил. Много при Сталине народу безвинно пропало. Но дисциплина при нем была крепкая, это хорошо. А коммунизма у нас не было, нет и не будет. Вообще коммунистической партии лучше бы сменить название на «народную».
– Григорий Данилович, вы телевизор смотрите?
– Читать не могу, зрение не позволяет, но телевизор смотрю. Люблю о международном положении и «Санта – Барбару», сериалы разные.
– В чем вы видите секрет, что дожили до ста лет? Что вы любите есть?
– Всю жизнь ел что дают. Любил жареное мясо, картошку, сало. Сейчас – больше молочное, мясо редко. А главный секрет прост: труд, труд и труд.
– А серьезно болеть вам приходилось?
– Был у меня инфаркт, через полтора месяца как на пенсию вышел. Делали операцию по зрению, в прошлом году воспалением легких болел. Мне здоровье помогла сохранить собака, жила у нас 14 лет. Не давала мне покоя, все время гулял с ней.
– В Бога вы, наверное, вряд ли верите?
– Если ты делаешь хорошо людям – в тебе Бог, если зло – в тебе дьявол. Я очень долго жил в Армении, и из русских на фабрике удержался я один. Потому что всем делал только добро. Добро всегда побеждает зло.
Григорий Данилович Полторак вступает во второе столетие своей жизни с оптимизмом. И с пенсией всего в 287 тысяч рублей… Заслуги его по защите России от турок в годы первой мировой войны не дают основания считаться ветераном войны. Есть у него медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», но этого, оказывается, недостаточно, чтобы иметь такие же льготы, как у участника войны.
1.3.97 г.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МЯТЕЖНЫХ КРОНШТАДЦЕВ
Несколько лет назад современные российские историки взялись за новое, без идеологии, изучение событий Кронштадтского мятежа 1921 года, начались поиски его участников. И даже самым молодым из них должно было быть уже 100 лет, двоих все же нашли. Один жил в Риге, бывший латышский стрелок участвовавший в подавлении восстания, а второй оказался единственным оставшихся в живых участников обороны Кронштадта. Последний из мятежных кронштадтцев – нижегородец Иван Алексеевич Ермолаев.
Он удивительно бодр для своих 94 лет, прекрасная память. Живая история: все видел своими глазами. Указом президента России Б. Ельцина 10 января 1994 года все участники кронштадтских событий реабилитированы. И сам термин «мятежный» в описании тех далеких событий применять, следовательно, нельзя.
В 1918 году студент энциклопедического института в Нижнем Новгороде (был, оказывается, и такой) Иван Ермолаев был призван в Волжскую военную флотилию. Он учился на историко – филологическом факультете, поэтому попал в редакцию газеты флотилии секретарем. Летом гоняли белых по Волге, а с поздней осени – за учебу. И так два года. По долгу службы И. Ермолаев встречался с такими знаменитостями гражданской войны, как командующий Волжской военной флотилии Ф. Раскольников и комиссар Л. Рейснер.
– Любила пожить Лариса Рейснер, – рассказывает И. Ермолаев, – простая была, хотя и дочь профеccopa. И Раскольников незаметный был. Приходилось ездить с ними на фронт.
В начале 1921 года Ф. Раскольников был командующим Балтийским флотом. Хотя по званию он был всего мичман.
Вот что пишет о Ф. Раскольникове в статье «Кто спровоцировал Кронштадтский мятеж» («Военно – исторический журнал», 1991): «Главную дезорганизацию во все внес командующий Балтийским флотом Ф. Раскольников. Когда он находился со своим штабом на Кронштадте, по его распоряжению готовились такие обеды на камбузе: для штаба – суп с мясом и еще два блюда, а для командующего и его и его ближайшего окружения приготавливались кушанья повышенной калорийности, о которых простые моряки не могли и мечтать. Команда, естественно это видела и возмущалась».
После разгрома Врангеля в стране была очередная мирная передышка и матросы Волжской флотилии и перед новым назначением в Кронштадт получили отпуск. Оказался у себя на родине и матрос Ермолаев.
– Приехал к отцу в деревню, – рассказывает Иван Алексеевич, – Голод, разруха. Показал он полную сумку квитанций об уплате налогов. Хозяйство из – за этой продразверстки было совершенно разрушено.
– Много ли было у отца земли?
– Четыре десятины, и кормились на ней шесть человек. Пошел я жаловаться в местный комбед, там сидят шесть бородатых мужиков за бутылкой самогона. Ничего от них не мог добиться. Вот с таким настроением и приехали мы в Кронштадтскую радиоминную школу.
Ермолаев не был ни эсером, ни анархистом, более того, еще в 1918 году он сам создал коммунистическую ячейку. Но вот парадокс: из ее 14 членов в партию приняли всех, кроме ее организатора, И. Ермолаева.
– Я написал в анкете, что не согласен с аграрной политикой партии. Считал, что землю надо было отдать крестьянам, потому что они ее и так выкупили, ведь 49 лет русские крестьяне, и мой отец в том числе, за землю расплачивались. А Ленин решил ее национализировать, считал, что крестьянин не должен быть собственником, это все мелкобуржуазная стихия. Опирался он в своих теориях на пролетариат и люмпенов, а крестьяне – собственники ему были не нужны. Недоучел он психологии крестьянина, втискивал все в рамки своей революционной теории. Потом мне много раз предлагали вступить в партию, но после Кронштадта дороги наши с ней разошлись. Ленин считал, что крестьяне будут тормозом революции.