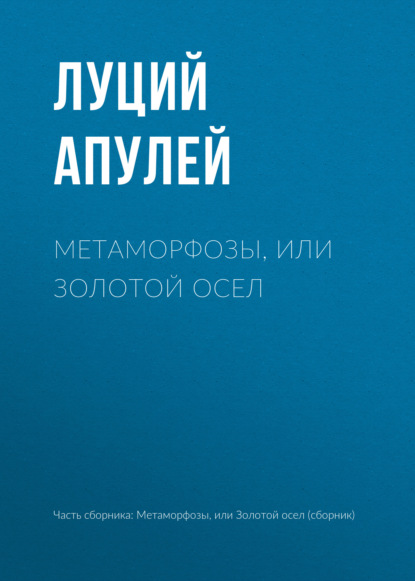полная версия
полная версияМилый друг
Дюруа спросил:
– При таких условиях быть репортером, должно быть, выгодно?
Журналист таинственно ответил:
– Да, но выгоднее всего хроника, это всегда замаскированная реклама.
Они встали и пошли по бульвару по направлению к церкви Мадлен. Сен-Потен неожиданно сказал своему спутнику:
– Знаете что, если у вас есть какие-нибудь дела, вы мне не нужны.
Дюруа пожал ему руку и ушел.
Мысль о том, что ему надо вечером писать статью, мучила его, и он начал ее обдумывать. Он шел, пытаясь собрать свои мысли, наблюдения, чужие мнения, разные случаи, и дошел таким образом до конца авеню Елисейских Полей, где изредка попадались гуляющие. Париж был пуст в эти жаркие дни.
Пообедав в маленьком ресторанчике на площади Этуаль, около Триумфальной арки, он медленным шагом вернулся домой по внешним бульварам и сел за стол, чтобы работать.
Но как только он увидел перед собою большой белый лист бумаги, весь собранный им материал вылетел у него из головы: казалось, самый мозг его испарился. Он старался поймать обрывки воспоминаний, закрепить их, но они ускользали, едва он успевал ухватиться за них, или же являлись в хаотическом состоянии, и он не знал, как выразить их, какую придать им форму, с чего начать.
Просидев целый час и испортив пять страниц вступительными фразами, не имеющими между собой никакой связи, он подумал: «Я еще недостаточно набил руку в этом деле. Надо взять еще один урок». И, представив себе возможность провести еще одно утро за работой с госпожой Форестье, представив себе долгое, интимное, сердечное и такое сладостное свидание наедине с ней, он весь затрепетал. Почти боясь теперь взяться за работу и вдруг оказаться способным выполнить ее самостоятельно, он поспешно лег спать.
На другое утро он встал поздно, отдаляя заранее предвкушаемое удовольствие предстоящего визита. Было больше десяти часов, когда он позвонил у дверей своего друга.
Слуга сказал:
– Господин Форестье работает.
Дюруа в голову не приходила мысль о том, что муж может оказаться дома. Однако он настойчиво сказал:
– Скажите, что это я, по спешному делу.
Через пять минут его ввели в кабинет, где он провел накануне такое чудесное утро.
Место, где он вчера сидел, было занято теперь Форестье; в халате, в туфлях, в маленькой английской шапочке он сидел и писал, а жена его, в том же пеньюаре, стояла, облокотившись на камин, и диктовала, с папиросой в зубах.
Дюруа, остановившись у порога, пробормотал:
– Простите, я вам помешал.
Приятель его, сердито подняв голову, проворчал:
– Что тебе еще надо! Говори скорей? Нам некогда.
Тот, сконфуженный, пролепетал:
– Нет, ничего, извини.
Форестье рассердился:
– К делу, черт возьми! Не теряй даром времени. Не для того же ты ворвался сюда, чтобы поздороваться с нами.
Тогда Дюруа, сильно смущенный, решился:
– Нет… вот… дело в том, что… мне опять не удается написать статью… а ты был… а вы были так… так… так милы в прошлый раз, что… что я надеялся… что я осмелился прийти…
Форестье оборвал его:
– Ты смеешься над нами, в конце концов! Так ты думаешь, что я буду за тебя работать, а тебе останется только получать деньги в конце месяца? Нет! Право, это недурно!
Молодая женщина продолжала курить, не говоря ни слова, и все время улыбалась неопределенной улыбкой, прикрывавшей ее насмешливую мысль.
Дюруа, краснея, пролепетал:
– Извините меня… я надеялся… я думал… – Потом вдруг отчетливо выговорил: – Приношу вам тысячу извинений, сударыня, и еще раз горячо благодарю за прелестную статью, которую вы за меня написали вчера.
Затем он поклонился и сказал Шарлю:
– В три часа я буду в редакции. – И вышел.
Быстрыми шагами он пошел домой, ворча: «Хорошо, я сейчас напишу эту статью сам, они увидят…»
Возбужденный гневом, он сел писать сейчас же, как только вошел в комнату.
Он продолжал развивать приключение, начатое госпожой Форестье, нагромождая подробности, заимствованные из фельетонов, невероятные случайности и напыщенные описания, – все это неуклюжим слогом школьника и жаргоном унтер-офицера. Заметка, представлявшая какой-то дикий хаос, была написана, и он понес ее в редакцию «Ви Франсез», твердо уверенный в успехе.
Первым, кого он встретил, был Сен-Потен, который, крепко пожав ему руку с видом сообщника, спросил его:
– Читали мою беседу с китайцем и с индусом? Забавно? Весь Париж смеялся. А я не видел даже кончика их носа.
Дюруа, который еще ничего не читал, сейчас же взял газету и стал пробегать глазами длинную статью, озаглавленную «Индия и Китай», а репортер указывал ему и подчеркивал наиболее интересные места.
Пришел Форестье, запыхавшийся, с деловым и озабоченным видом:
– Вот хорошо, вы мне оба нужны.
Он указал им ряд политических сведений, которые они должны были раздобыть в этот же вечер. Дюруа протянул ему свою статью.
– Вот продолжение статьи об Алжире.
– Отлично, дай, я передам ее патрону.
На этом разговор кончился.
Сен-Потен увлек за собой нового коллегу и, когда они вышли в коридор, спросил его:
– Были вы уже в кассе?
– Нет. Зачем?
– Зачем? А чтобы получить деньги. Знаете, всегда нужно забирать жалованье за месяц вперед. Мало ли что может случиться…
– Что ж… Я ничего не имею против.
– Я вас познакомлю с кассиром. Он препятствовать не будет. Здесь платят хорошо.
И Дюруа получил свои двести франков да еще двадцать восемь франков за вчерашнюю статью; вместе с тем, что осталось от жалованья, полученного на старой службе, у него оказалось в кармане триста сорок франков. Никогда еще он не держал в руках такой суммы, и ему казалось, что богатству его не будет конца.
Потом Сен-Потен повел его в редакции четырех или пяти конкурирующих газет, надеясь, что другие уже раздобыли сведения, которые ему поручили узнать, и что он сумеет их выведать с помощью своего хитрого длинного языка.
Вечером Дюруа нечего было делать, и он вздумал снова пойти в «Фоли-Берже». Набравшись смелости, он подошел к контролю:
– Я Жорж Дюруа, сотрудник «Ви Франсез». На днях я был здесь с господином Форестье, и он обещал устроить мне даровой вход. Не знаю, не забыл ли он.
Просмотрели список, и его имени там не оказалось. Однако контролер очень любезно сказал:
– Во всяком случае, войдите и обратитесь лично к управляющему; разумеется, он вам не откажет.
Он вошел и почти сейчас же встретил Рашель, женщину, которую он увел с собой в первый вечер.
Она подошла к нему:
– Здравствуй, котик, как поживаешь?
– Хорошо, а ты?
– Я недурно. Знаешь, я тебя два раза видела во сне за это время.
Дюруа, польщенный, улыбнулся:
– Ну-ну, и что же это значит?
– Это значит, что ты мне понравился, дурачок, и что мы повторим, когда тебе будет угодно.
– Сегодня, если хочешь.
– Да, я хочу.
– Хорошо, но вот что…
Он колебался, немного смущенный тем, что собирался сказать.
– Дело в том, что сегодня у меня нет денег; я был в клубе и все спустил там.
Она заглянула ему в глаза, чувствуя ложь инстинктом опытной проститутки, привыкшей к хитростям и к торгашеству мужчин. Она сказала:
– Лгунишка! Не очень-то мило с твоей стороны.
Он смущенно улыбнулся:
– Хочешь десять франков – все, что у меня осталось?
С бескорыстием куртизанки, удовлетворяющей свой каприз, она прошептала:
– Все равно, милый. Я хочу только тебя.
И, устремив влюбленный взгляд на усы молодого человека, она нежно оперлась на его руку и сказала:
– Выпьем сначала гренадину, потом погуляем немножко. Мне хотелось бы пройти с тобой в Оперу, чтобы показать тебя. Мы пораньше пойдем домой, не правда ли?
До позднего часа он спал у этой женщины. Когда он вышел на улицу, был уже день, и тотчас ему пришла в голову мысль купить номер «Ви Франсез». Дрожащими руками он его развернул: его статьи не было; он стоял на тротуаре и тревожным взглядом пробегал газетные столбцы, все еще надеясь найти то, что искал.
Какая-то тяжесть внезапно легла ему на сердце; он был утомлен ночью любви, и эта неприятность, присоединявшаяся к его усталости, показалась ему большим несчастьем. Он поднялся к себе и заснул на постели одетый. Через несколько часов он отправился в редакцию и зашел к Вальтеру.
– Сегодня утром я был очень удивлен, что вторая моя статья об Алжире не напечатана.
Издатель поднял голову и сухо сказал:
– Я передал ее вашему другу Форестье и просил его просмотреть; он нашел ее неудовлетворительной, вам придется переделать ее.
Дюруа, взбешенный, вышел, не сказав ни слова, быстро вошел в кабинет своего друга и спросил:
– Почему ты не поместил сегодня моей статьи?
Журналист курил, развалившись в кресле; положив ноги на стол, он каблуками пачкал начатую статью. Спокойно, слабым голосом, точно доносившимся из глубины какой-то ямы, он проговорил тоном человека, которому все это надоело:
– Патрон нашел, что она не годится, и поручил мне передать ее тебе для исправления. Вот она, возьми.
И он указал пальцем на листы, лежавшие под пресс-папье. Дюруа, совсем уничтоженный, не знал, что сказать, и положил листы в карман. Форестье продолжал:
– Сегодня ты сперва отправишься в префектуру…
И он указал ему ряд деловых визитов и сведений, которые ему нужно было собрать. Дюруа вышел молча, не найдя едкого слова, которого искал.
На другой день он снова принес свою статью. Ему опять вернули ее. Переделав ее в третий раз и снова получив обратно, он понял, что только рука Форестье может оказать ему поддержку в его карьере.
Он больше не заговаривал о «Воспоминаниях африканского стрелка», решил быть уступчивым и хитрым, раз это необходимо, а пока, в ожидании лучшего, старательно исполнял свои обязанности репортера.
Он познакомился с кулисами театра и политики, с кулуарами и передними государственных мужей и палаты депутатов, с важными лицами чиновников особых поручений и с нахмуренными физиономиями заспанных швейцаров.
У него установились постоянные сношения с министрами, с привратниками, с генералами, полицейскими агентами, князьями, сутенерами, куртизанками, послами, епископами, с посредниками, с мошенниками крупного полета, с людьми из общества, с шулерами, с извозчиками, с лакеями из кафе и со многими другими; он стал равнодушным и небескорыстным приятелем всех этих людей – приятелем из расчета; все они были одинаковы в его глазах, он мерил всех одной меркой, всех оценивал с одной и той же точки зрения, так как сталкивался с ними ежедневно во все часы дня, непосредственно переходя от одного к другому и с каждым говоря об одном и том же – о делах, касающихся его профессии. Сам он сравнивал себя с человеком, который перепробовал одно за другим всевозможные вина и теперь уже не отличает больше Шато-Марго от Аржантейля.
В короткий срок он стал замечательным репортером, уверенным в своих сведениях, хитрым, проворным, тонким, – настоящим кладом для газеты, как говорил старик Вальтер, знавший толк в сотрудниках.
Однако он получал только по десять сантимов за строчку и двести франков жалованья, а жизнь на бульварах, в кафе и в ресторанах стоит дорого, и потому у него никогда не бывало денег и он приходил в отчаяние от своей бедности.
«Тут кроется какой-то секрет, который необходимо разгадать», – думал он, видя, что у некоторых его коллег карманы набиты золотом, и не понимая, какие тайные средства употребляют они, чтобы добиться такого благоденствия. И он с завистью рисовал себе какие-то неизвестные и подозрительные способы, какие-то услуги, оказанные кому-то, целую сеть общепринятой и дозволенной контрабанды. Значит, ему необходимо было открыть эту тайну, вступить в этот молчаливый союз, втиснуться в круг товарищей, нажившихся без него.
И часто по вечерам, следя из окна за проходящими поездами, он думал о том, какие способы можно было бы для этого изобрести.
V
Прошло два месяца; приближался сентябрь, а наступление блестящей карьеры, на которую надеялся Дюруа, казалось ему еще очень отдаленным. Больше всего его огорчала незаметность его общественного положения, но он не знал, каким путем достичь высот, на которых можно добыть уважение, могущество и деньги. Он чувствовал себя запертым, навеки замурованным в своей жалкой профессии репортера и не видел возможности какого-либо выхода. Его ценили, но обращались с ним сообразно его рангу. Даже Форестье, которому он оказывал массу услуг, не приглашал его больше обедать и относился к нему как к подчиненному, хотя и продолжал говорить ему «ты» как другу.
Правда, время от времени Дюруа удавалось при случае печатать свои статейки. Благодаря своей хронике он приобрел известную легкость стиля и такт, которого ему недоставало раньше, когда он писал свою вторую статью об Алжире, так что теперь его заметкам на злобу дня не угрожало больше опасности быть отвергнутыми. Но от этого до возможности выбирать темы самостоятельно, по своему желанию, или обсуждать политические вопросы в качестве компетентного судьи было такое же расстояние, как между положением кучера и владельца экипажа, который правит им сам на прогулке по авеню Булонского леса. Особенно угнетало его сознание, что перед ним закрыты двери большого света, что у него нет знакомых, которые относились бы к нему как к равному, что у него не устанавливается близость с женщинами, хотя некоторые актрисы, пользующиеся известностью, проявляли к нему интерес и принимали запросто.
Он знал, по опыту знал, что все они, светские дамы и захудалые актрисы, испытывают по отношению к нему какое-то странное влечение, мгновенно зарождающуюся симпатию, и с терпением стреноженной лошади он ждал минуты, когда познакомится с теми из них, от кого может зависеть его будущее.
У него часто бывало желание посетить госпожу Форестье, но унизительное воспоминание об их последней встрече удерживало его от этого. Кроме того, он ждал приглашения со стороны ее мужа. Он вспомнил о госпоже де Марель и о том, что она просила навестить ее, и отправился к ней как-то после обеда, когда ему было нечего делать.
«До трех часов я всегда дома», – предупредила она его.
В половине третьего он позвонил у ее дверей. Она жила на улице Вернейль, на пятом этаже. На звонок вышла открыть дверь горничная, молоденькая растрепанная служанка. Поправляя чепчик, она сказала ему:
– Госпожа де Марель дома, но не знаю, встала ли она. – И распахнула незапертую дверь в гостиную.
Дюруа вошел. Это была довольно большая комната, скудно меблированная и имевшая неряшливый вид. Выцветшие старые кресла были расставлены вдоль стен так, как вздумалось их поставить служанке; ни на одном предмете не лежало отпечатка изысканной заботливости женщины, любящей свое жилище. На стенах криво висели четыре жалкие картины, небрежно прикрепленные при помощи шнурков неравной длины; они изображали лодку на реке, корабль в море, мельницу среди равнины и дровосека в лесу. Чувствовалось, что они давно уже висят так, забытые равнодушной хозяйкой.
Дюруа сел и стал ждать. Он ждал долго. Наконец дверь отворилась и вбежала госпожа де Марель в японском пеньюаре из розового шелка, на котором были вышиты золотые пейзажи, голубые цветы и белые птицы.
Она воскликнула:
– Представьте себе, я была еще в постели. Как это мило с вашей стороны, что вы пришли ко мне! Я была убеждена, что вы обо мне забыли.
С восхищенным видом она протянула ему обе руки, и Дюруа, почувствовавший себя в этой скромной комнате непринужденно, взял ее руки и поцеловал одну из них, как это сделал однажды при нем Норбер де Варенн.
Она усадила его; потом, осмотрев с ног до головы, сказала:
– Как вы изменились! Ваша внешность очень выиграла. Париж хорошо на вас действует. Ну, рассказывайте мне новости.
Они сейчас же принялись болтать как старые знакомые, чувствуя, как внезапно зарождается у них взаимная симпатия, как устанавливаются между ними доверие, близость и приязнь, которые в пять минут делают друзьями два существа одного характера и одной породы.
Вдруг молодая женщина прервала разговор и сказала с удивлением:
– Как это странно, что я так с вами болтаю. Мне кажется, что я вас знаю лет десять. Я уверена, что мы будем добрыми приятелями. Хотите?
Он ответил:
– О, конечно!
А улыбка его говорила еще больше.
Он находил ее очень соблазнительной в этом ярком и нежном пеньюаре, менее тонкой, чем та, другая, в белом, менее женственной, менее изящной, но более возбуждающей, более пикантной.
Находясь возле госпожи Форестье, одновременно привлекавшей и останавливавшей его своей приветливо-холодной улыбкой, говорившей, казалось: «Вы мне нравитесь» – и в то же время: «Берегитесь»; улыбкой, истинного смысла которой он никак не мог уловить, он испытывал желание броситься к ее ногам или покрыть поцелуями нежное кружево ее корсажа, медленно вдыхая теплый аромат ее груди. Возле госпожи де Марель он ощущал более грубое, более определенное желание – желание, заставлявшее его трепетать при виде форм ее тела, обрисовывавшихся под легким шелком.
Она без умолку болтала, приправляя каждую фразу свойственным ей легким остроумием, так мастеровой применяет какой-либо прием, который другим кажется очень трудным и вызывает всеобщее удивление. Он слушал, думая про себя: «Это не мешает запомнить. Можно писать очаровательные парижские хроники, заставляя ее болтать по поводу событий дня».
Кто-то тихо, очень тихо постучал в дверь. Она крикнула:
– Можешь войти, милочка!
Девочка вошла, прямо подошла к Дюруа и протянула ему руку.
Мать с изумлением прошептала:
– Это настоящая победа. Я ее совсем не узнаю.
Поцеловав девочку, молодой человек усадил ее рядом с собой и с серьезным видом стал ласково расспрашивать ее о том, как она проводила время после их встречи. Она отвечала своим тоненьким, нежным, как флейта, голоском с важным видом взрослой особы.
Пробило три часа. Журналист встал.
– Приходите почаще. – сказала госпожа де Марель. – Мы будем болтать, как сегодня. Это доставит мне большое удовольствие. А почему это вас больше не видно у Форестье?
Он ответил:
– Это не вызвано никакой серьезной причиной. Я был очень занят. Надеюсь, что как-нибудь на днях мы там встретимся.
И он вышел с сердцем, полным смутной надежды.
Он не рассказал Форестье об этом визите.
Но в течение последующих дней он хранил воспоминание о нем, больше чем воспоминание, ощущение какого-то нереального, но постоянного присутствия этой женщины. Ему казалось, что он завладел частицей ее самой: ее телесный образ стоял у него перед глазами, а сладость ее духовного существа проникла в сердце. Мысль о ней неотступно преследовала его, как это бывает иногда, после того как проведешь несколько очаровательных часов возле любимого человека. Это какая-то одержимость, какое-то подчинение, странное, интимное, неясное, волнующее и восхитительное именно в силу своей таинственности.
Через несколько дней он пришел к ней снова. Горничная провела его в гостиную, и сейчас же появилась Лорина.
На этот раз она уже не протянула руки, а подставила для поцелуя свой лобик и сказала:
– Мама велела мне попросить вас подождать ее. Она выйдет через четверть часа, потому что еще не одета. Я посижу с вами.
Дюруа, которого забавляли церемонные манеры девочки, ответил:
– Отлично, мадемуазель, я с удовольствием проведу с вами четверть часа. Но предупреждаю: я совсем несерьезен. Я играю по целым дням. И потому предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.
Девочка стояла пораженная. Потом она улыбнулась, как улыбнулась бы взрослая женщина, выслушав предложение, несколько шокирующее и удивляющее ее, и прошептала:
– В комнатах не играют.
Он возразил:
– Мне все равно. Я играю везде. Ну, ловите меня.
Он начал кружиться вокруг стола, поддразнивая ее и заставляя ловить себя. Она следовала за ним, не переставая улыбаться с видом вежливой снисходительности, иногда протягивала руку, чтобы дотронуться до него, но все еще не позволяла себе бежать за ним.
Он останавливался, нагибался и, когда она нерешительными шажками подходила к нему, подскакивал, словно чертик в ящике[8], и одним прыжком оказывался на другом конце гостиной. Это занимало ее, она в конце концов начала смеяться и, оживившись, стала бегать за ним, издавая боязливо-радостные восклицания, когда ей казалось, что вот-вот она поймает его. Он подставлял стулья, преграждая ей дорогу, заставлял ее вертеться вокруг одного из них, потом бросал его и хватал другой. Лорина бегала теперь за ним, всем своим существом наслаждаясь этой новой игрой. С разрумянившимся лицом, она по-детски радовалась всем прыжкам, хитростям и уловкам своего товарища.
Вдруг, в ту минуту, когда ей казалось, что она сейчас его поймает, он схватил ее и поднял до потолка, крикнув:
– Попалась!
Восхищенная девочка болтала ногами, пытаясь вырваться, и смеялась от всего сердца.
Госпожа де Марель вошла и остановилась, пораженная:
– Лорина… Лорина играет… Да вы просто волшебник, господин Дюруа!
Дюруа опустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они сели, посадив между собой ребенка. Им хотелось поговорить, но Лорина, обычно такая молчаливая, болтала без умолку, все еще охваченная возбуждением, вызванным в ней игрой. Пришлось отправить ее в детскую.
Она повиновалась молча, но со слезами на глазах.
Когда они остались вдвоем, госпожа де Марель понизила голос:
– Знаете что, у меня грандиозный проект, и я подумала о вас. Дело вот в чем: я каждую неделю обедаю у Форестье и время от времени в свою очередь приглашаю их пообедать со мной в ресторане. Я не люблю принимать у себя; я совсем не создана для этого, и, кроме того, я ничего не понимаю в хозяйстве, в кухне, во всех этих вещах. Я люблю жить не стесняя себя. Итак, время от времени я приглашаю их в ресторан, но когда мы бываем втроем, то это не очень-то весело, а мои знакомые к ним не подходят. Я говорю вам все это, чтобы объяснить свое не совсем обычное приглашение. Вы, конечно, понимаете, что я прошу вас принять участие в наших субботах, в кафе «Риш», в половине восьмого. Вы знаете этот ресторан?
Он с восторгом принял приглашение. Она продолжала:
– Нас будет только четверо. Как раз две пары. Эти маленькие пирушки очень развлекают нас, женщин: мы ведь к ним не привыкли.
На ней было платье каштанового цвета, кокетливо и вызывающе облегавшее ее талию, бедра, грудь и плечи, и Дюруа почувствовал изумление, почти смущение, истинную причину которых он не мог уловить, от несоответствия элегантности ее костюма с неряшливой обстановкой квартиры.
Все, что облекало ее фигуру, что непосредственно и тесно прикасалось к ее телу, было изящно и тонко, а окружающая обстановка нисколько не интересовала ее.
Он покинул ее, сохранив, как и в прошлый раз, ощущение непрерывного ее присутствия, доходившее до галлюцинации чувств. И стал ждать назначенного дня с возрастающим нетерпением.
Он снова взял напрокат черный фрак, так как был еще не в состоянии приобрести парадный костюм, и явился на место свидания первым, за несколько минут до условленного часа.
Его проводили на третий этаж, в маленький, обитый красным кабинет с единственным окном, выходившим на бульвар.
На квадратном столике, накрытом на четыре прибора, была разостлана белая скатерть, такая блестящая, что она казалась лакированной. Стаканы, серебро, грелка весело сверкали при огне двенадцати свечей, вставленных в два высоких канделябра.
За окном виднелось большое светло-зеленое пятно, образованное ветвями дерева, попавшего в полосу яркого света, падавшего из окон отдельных кабинетов.
Дюруа сел на очень низкий диван, такой же красный, как обивка стен. При этом ослабевшие пружины подались под тяжестью его тела, и ему показалось, что он проваливается в яму. Во всем этом огромном доме слышался неясный гул больших ресторанов, возникающий от звона посуды и серебра, быстрых, заглушенных шагов лакеев, стука открывающихся дверей, из-за которых на мгновение доносятся голоса людей, обедающих во всех этих маленьких отдельных кабинетах.
Форестье вошел и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, какой он никогда не проявлял по отношению к нему в редакции «Ви Франсез».
– Дамы придут вместе, – сказал он. – Как милы эти обеды!
Потом он осмотрел стол, потушил слабо мерцающий газовый рожок, закрыл одну створку окна, так как из него дуло, выбрал себе место, защищенное от сквозняка, и сказал:
– Мне нужно беречься. Целый месяц я чувствовал себя хорошо, а теперь я опять нездоров уже несколько дней. Должно быть, я простудился во вторник, выходя из театра.
Дверь открылась, и показались обе молодые женщины в сопровождении метрдотеля. Они были под вуалями и держали себя с той скромной сдержанностью, с той очаровательной таинственностью, какой всегда облекают себя женщины в подобных местах, где каждое соседство, каждая встреча вызывают подозрения.