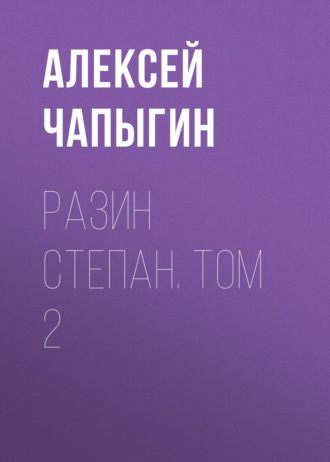 полная версия
полная версияРазин Степан. Том 2
– Не осмыслил я, батько, тебя сразу… Ты затеял ладно…
– Нынче так! Пушки кои в струги на дно кинем, паздерой да соломой засыплем, а тех, что не скрыть, ответишь воеводе: «Надобны-де нам теи пушки от немирных сыроядцев – пойдем степью с Царицына на Дон!» Уволокешь за собой речные струги, паузки плоскодонны и челны. В греби народу тебе хватит, мужиков-топорников сошлось много… Худо то, есаул: бойцы наши сплошь сермяжны, лапотны, к бою пищали несвычны, им не давалась пищаль – запрет от бояр, помещиков, оттого, как цель держать, огнем дуют – оба ока заперты. Обучать их – гляди, бояра времени не дадут… Ну, черт с ним! Ваших голов мне жаль – своя на то идет… По Волге наплывешь, Степан, стрельцов ли, солдат в колодках – сбивай путы, мани с собой. Всяк дорог, кто к пищали свычен. Они и сами, колодники, шибутся на твой струг, пойдут… На Дон приедешь – в Черкасск не бувай, матерым козакам не кажись: много с детства знают меня. Стань ты при входе Донца в Дон на остров меж Кагальницкой да Ведерниковой. Остров большой. Кинь шатры, немедля строй на острове бурдюжной город, окопай рвом, роскаты наруби, тут тебе топорники гожи – народу с тобой будет довольно. Да вскорости, как пойдут купчины в паузках к Черкасскому, имай их, давай торговать и хлеб скупай. Чтоб голоду не было, сострой для хлеба анбары, сыпь зерно и в запас купи. В Черкасск пошли надежного человека, мани к себе мою жену с детьми. Фролка – брат – с Лавреевым вышел, да где сидит, не дошел еще сюда… Олене уясни правду, а робята меня не знают – за отца сочтут, и ты для глаз чужих их ласти. Олена – та о всем смолчит… Матерым козакам, кои пришлют по деньги – за свинец, порох, – деньги дай. Не сам прими их, пущай Олена с ними. Бурдюг матерым не кажи и пристрою зреть не давай… Ко времени я доспею в твой Кагальник, ты же тайным путем исчезнешь. Замест меня здесь сядет в тое время Лавреев, Васька Ус. Еще отпиши скоро, как на Дону будешь, в Яик, чтоб яицкие из тюрьмы спустили Федора Сукнина: имали его, когда с Кизылбаши шел. Яицкие из веков послушны Дону… Я Сукнина отселе мыслю достать, но все же пиши в Яик… Чего не пьешь?
– Сказывай еще – слушаю тебя, батько! Думаю, когда велишь сбираться?
– Времени мало – повещу! Пождать надо от воеводы грамоту, чтоб путь твой, Степан Тимофеевич, без поперечки был, с честью, с проводами голов стрелецких. Ты к сапогам каблуки набей выше, я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч для… брови сурьми. Голоса не давай вовсю – маши чеканом да рычи… Иногда, когда потребно, лицо подзавешай… сказка так сказка! Царевы грамоты стренешь – имай, дери и мечи в воду, то в огонь.
– Эх, батько, почести мне сколь! Ну, и сказка… хе-хе…
– Сыска за тобой больше почести будет, сказываю… Аргамаков, что царю купчины-тезики везли, возьмешь и лишнюю рухледь, узорочье тож… В Царицыне сыщи прежнего воеводу… Не убей, погоняй ладом черта!
– Унковский, батько, доглядчик – знаю, и он знать будет меня!
– Поди, Степан! Проверь дозор и спи!
Разин проводил есаула за шатер. Вернулся. Приподнял сбоку фараганский ковер. На низком резном табурете, как всегда, горели три свечи. На подушках, раскиданных на ковре, под тонким шелковым покрывалом спала княжна. Маленькая, голая до колен нога с крашенными киноварью ногтями высовывалась на ковер, нежные пальцы ноги шевелились во сне… Смуглые руки в браслетах закинуты за голову, бледное лицо повернуто в тень. На щеке тлеет ярко очерченный румянец. Тяжелое, с хрипом, дыхание шевелит в розовом ухе дорогую серьгу с изумрудами, в ноздре изогнутого носа видна зажившая ранка от кольца – украшения. Под тонким шелком, голубовато-бледным, фигура вздрагивавшей во сне девушки, явно больной, все же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дернул ковер, вздрогнул весь большой шатер от могучего движения. Складки на лбу атамана разгладились, глаза ласково светили, минуту он глядел, пока не опустилась на грудь седеющими кудрями голова, тогда он мотнул головой, вскинулись концы чалмы, отвернул лицо, вздохнул:
«Не верю крестам… Верил, то перекрестил бы безгласную по-нашему будто птицу, в гае уловленную сетьми… Жалобит иной раз… Поет тоже, а что поет? Как у птицы, неосмысленно моим умом… Эх, к черту, да!.. Ваську жаль, жаль и ее, чужую… Вот коли вырвешь, что жалобит, то много легше…»
Не гася огней, не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув саблей и цепью сверкнув. Шапка с чалмой скатилась с головы. Разин захрапел; иногда, переставая храпеть, словно прислушиваясь, скрипел во сне зубами. За шатром в слободе лаяли собаки, в городе им отвечали более отдаленным лаем. Лай смолк. Высоко в звездном небе слышен неровный грустный звон – то на раскате перед астраханским собором церковный сторож, он же часовой-досмотрщик, выбивал согласно стрелкам часы.
Раз! Два! И так до восьми, что значило полночь, двенадцать часов.
Вблизи шатра атамана в сумраке беззвучной тенью проплывал человек дозора с пищалью на плече. Он слышал, как из татарской сакли, мутной, на мутных колесах-подпорках, кто-то злым голосом ругал женщину, ушедшую в тьму:
– Иблис! Шайтан, шайтан, иблис![89]
Лающая голова, словно башлыком, прикрыта войлочными полами входа.
10В Приказной палате три подьячих: два молодых и пожилой – любимец воеводы, Петр Алексеев, с желтым узким лицом. По его русо-рыжеватым волосикам, жидким, гладко примазанным к темени, натянут черный ремень. Думного дьяка за столом нет, нет и подручных дьяков. Перед подьячими бумаги. Кроме Алексеева с дьяками, подьячие, что помоложе, обязаны читать вслух бумаги, но без старших сегодня не блюдут правил. Лишь один, самый молодой, румяный, с яркой царапиной на лбу, с рыжей щетинкой усов, бубнил, старательно выговаривая каждое слово, как бы учась читать грамоты перед самим воеводой. Читал бумагу подьячий с пропусками. Алексеев сказал:
– Заставлю тебя, Митька, чести заново!
Парень, не слушая, продолжал:
– «…и та лошедь записана, и ему, Павлу Матюшину, та лошедь с роспискою отдана, а как спросят тое лошедь, и ему, Павлу, поставить ее за порукою астраханского стрельца годовальщика, Андрюшки Лебедева, да другово стрельца, Сеньки Каретникова. Они в той лошеди ручались, что ему, Павлу Матюшину, тое лошедь поставить на Астрахани перед воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, а буде та лошедь утеряется, и ему, Павлу, цену плотить. Во 177 году августа в 3 день астраханской стрелец Гришка Чикмаз оценил тое лошедь, что привел Павел Матюшин – кобылу коуру, грива направе, осьми лет, на левом боку надорец[90], а по оценке ценовщика дать с полугривною тридцать алтын».
Прочитав, подьячий потянулся, зевнул.
– Покрести рот, не влез бы черт!
Парень не ответил Алексееву. Обмакнув остро очиненное перо в чернильницу на ремне, звонко прихлопнув железную крышку ее толстым пальцем, на полях лошадиной записи приписал: «Ой, и свербят же мои!»
Алексеев схватил подьячего за рукав:
– Закинь, Митька, грамоты марать! Ась, бит будешь…
Подьячий, освободив руку, отряхнул с гусиного пера мусор, написал:
«Ой, и свербят! Дела просят…»
– Пишу я, Лексеич, а думаю: кому сю бумагу чести? Жилец астраханской, большой дворянин, угнал у татарина лошедь и не явит перед воеводу – деньги даст; суди сам, чего не дать за матерую кобылу тридцать алтын? Татарину жалобить некуда: сам он без языка, письма не разумеет, а мурзы татарские взяты все атаманами на Астрахань.
– Велико то дело, не приведет! Ты вот к юртам татарским ходишь, путем-дорогой к шарпальникам Разина. Мотри, парень! Имал я кои прелестные письма воровские, и, вишь, в письмах тех рукописание схоже с твоим, а-ась? Ты – Васе! Закинь тоже грамоты живописать… Бит был, чуть не сместили вот…
Другой подьячий, водя по щеке концом языка, рисуя на полях, ответил:
– Нам с Митюшкой, Петр Лексеев, ладных грамот не дают чести, худую же украсить надо, може, на ее тож очи вскинут.
– Ну, ась, робята! Беда с вами: придут дьяки, узрят – пошто челобитные марают словами матерны? Пошто живописуют чувствилища мерзкие? Я же за вами доглядчик.
– Дьяки ништо, Петр Лексеев! Вот худо: воеводе в ухо дуешь всякую малость… Должон, как и мы, чести челобитные да судные грамоты, ты же – гибельщик наш, едино что.
– Доводить буду! Пришел делать, не озоруй, всяка бумага, она тебе – государево дело.
– Слушь, Мить: седни сошлось, что с Петрой одни мы, а дай-кось надерем бок гибельщику.
– Давай! Може, лишне доводить кинет?
Лица парней оскалились, оба, вскочив, скрипнули скамьями, сдвинули синие рукава нанковых кафтанов к локтям. Тот, что рисовал, искрясь глазами, крикнул:
– Ладим тебе, Петрушка, по-иному волосье зачесать!
– Парни, ась, в палате бой, не на улице, за государевым делом! Закиньте, парни…
– А где прилучилось! Вишь – у тя за обносы дареной кафтан не мят!
– То само! Мы те из кафтана лишнюю паздеру выбьем, бока колоть не будет… хи…
Любимец воеводы нырнул под стол:
– Ведайте, разбойники! Не на площади бой – сыщут…
– Мы тя сыщем, княжая чадь!
– Пинай! Он тута.
– Глобозкой[91], дьявол!
– Попал вот… Мы те живописуем архандела сапогами на…
– Чу?!
В дверях Приказной палаты знакомо стукнул набалдашник посоха.
– Мить, воевода! Сними щеколду!
Подьячий поднял сваленную на пол скамью, сел за стол, мазнул широкой ладонью по лицу, стирая пот. Другой пошел к двери; воевода повторил стук строго и раздельно. Алексеев вылез на место, взялся за бумаги.
– Годи, черт! Ужо за язык…
Алексеев, читая грамоту, тихо ответил:
– Ась, седни что было, не умолчу…
– Доводи – черт тя ешь!
Воевода, глядя тусклыми глазами вдаль, прошел по палате, не замечая, не слыша подьячих, и неспешно затворился в воеводской горнице. Деревянная постройка гулка, Прозоровский из-за двери позвал:
– Алексеев!
– Чую, ась!
Старший подьячий, неслышно пройдя к воеводе, плотно припер двери.
– Быть нам битыми!..
– Убить его, Митька, да бежать!
– Чем здесь, краше атаману писать прелестные письма.
– Уй, тише ты-ы!..
Из горницы донесся голос:
– Сядь, слушай, что буду сказывать!
– Чую, ась, князинька!
Все до слова слышно было в Приказной. Воевода говорил гнусавя, но громко и раздельно:
– Пиши! «Грамота атаману Степану Разину от воеводы астраханского, князя Ивана Семеновича Прозоровского». Что-то перо твое втыкает?
– Кончил, ась, я, князинька!
– «Не ладно, атаман, чинишь ты, приказывая мног народ беглой к Астрахани, и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбья от великого государя, и ехати тебе вскорости в войско донское, чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем. А послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что ныне на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти… Мног люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался, и тебе он хотел говорить, чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское… Я же непрошеному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за бранное неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь поздорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем!»
– Исписал? Добро! Дай-ка грамоту, я подпишусь!
В палате подьячий шепнул:
– Мить! Скинь сапоги, слушай… чай, доводить, сука, зачнет?
Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям. За дверями Алексеев тихо наговаривал:
– Беда, ась, князинька! От служилых лай, да седни подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты вшел, закинули… Едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова. Хуже еще Васька: на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно; оное после, как я углядел, из вапницы[92] киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотой завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты и, ведаю я, походя вору Стеньке Разину прелестные письма орудует… Про атаманов, мурз судит, что взяты на Астрахани…
– Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай… Сойдет время, Митьку того для велю взять в пытошную и допросить с пристрастием… Ваське – батогов!
Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.
– Ты што, Мить?
– Довел: тебе батоги, меня пытать.
– Не бойсь, седни же в ночь бежим к козакам.
Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду… Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу Приказной, стараясь не глядеть на младших.
11До времени, как быть золоченому широкопалубному паузку на Волге, она не носила на волнах столь разряженного суденышка, хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми из парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведенный к Астрахани из Коломны, казался нищим с белой надписью на смоляных боках «Орел». На нем, на мачтах и реях, серые паруса плотно подобраны, железные пушки по бортам выглядывали ржавыми жерлами, из гребных окошек неуклюже торчали тяжелые лопасти весел. Усатый немец в синем куцем мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку и, сплюнув в Волгу, сказал:
– На, jetzt wird was. Die Rauber legen sich goldene Kleider an[93].
Обернулся к палубе, крикнул:
– Гей, пушкар, гляди – пушка!
Разряженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо: на гребцах парчовые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах, с кистями, чалмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму черного корабля, крикнул, заглушая плеск волн:
– Годи, царской ворон! Мы те под крылье огню дадим.
Посадский и слободской люд, даже жильцы в красных кафтанах и астраханские из небольших, вышли на берег глядеть на атамана. В толпе ветер перекидывал гул голосов:
– Уезжает атаман!
– Ку-у-ды?
– В Москву! Царь зовет… царевича повозит – Ляксея… соскучил царь-от!
– На Дон, сказывают. Пошто в Москву? Народ кинуть надобе.
– В Москву-у! Глянь, с царевичем в обнимку сидит.
– Ой, людие, где ваш зор? То персицка княжна-а…
– Княжна-а?
– И-и-их! Хороша же!
– Ясырка! Что в их? Ни веры нашей, ни говори.
– Пошто вера? Сам-то Разин мясо ест в посты.
– Теляти-ну-у!..
– Телятину! Тьфу ты!
Раскатисто набегали волны поверх гребней своих сине-зеленых, сыпали белыми тающими жемчугами, шипели, будто оттачивая булат… Атаман в ярко-красной чуге[94]; из коротких рукавов чуги высунулись узкие золотистого шелка рукава. Правая рука с перстнем, обняв за шею княжну, висела, спустившись с худенького плеча. Княжна горбилась под тяжестью руки господина. Разин, склонясь, заглядывал красавице в глаза. Она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персиянка разумеет татарское, спрашивал:
– Ярата-син[95], Зейнеб?
– Ни яратам, ни лубит… – Мотнула красивой головой в цветных шелках, а что тяжело ее тонкой шее под богатырской рукой, сказать не умеет и боится снять руку – горбится все ниже.
Разин сам снял руку, подняв голову, сказал:
– Гей, дид Вологженин! Играй бувальщину.
Подслеповатый бахарь, старик в синем кафтане, в серой бараньей шапке, щипнув струны домры, отозвался:
– Иную, батюшко, лажу сыграть… бояр потешить, что с берега глядят, да и немчин с корабля пущай чует…
– Играй!
Старик, подыгрывая домрой, запел. Ветер кусками швырял его слова то на Волгу, то на берег:
Эй, вы, головы боярские,В шапках с жемчугом кичливые!– Ото, дид, ладно!
Не подумали вы думушку,То с веков не пало на душу,Что шагнет народ в повольицо…– Дуже!
Скиньте, сбросьте крепость пашеннуСо покосов да со наймищей.Чуй! Не скинете, так черной людАтамана позовет на вас!Топоры наточит кованы…Точит, точит, ой, уж точит он…Глянь, в боярски хлынет теремыСо примёт, с хором огонь палой.– Хе, пошло огню, дид, пошло!..
Не стоять броне, ни панцирю,
Ни мечу-сабле с канчарами
Супротив народной силушки…
– Дуже, дид!
Гей, крепчай, народ, пались душой!Засекай засеки по лесу…Засекай, секи, секи, секи!Вторила домра:
Наберись поболе удали,Пусть же ведают, коль силы есть!Ох, закинут люди черныеТу налогу воеводину.Позабудется и сказ указ,Что мужик – лопотье[96] рваное,Что лишь лапотник да пашенник,Что сума он переметная…Киньте ж зор с роскатов башельных.У царя да у бояринаДа у стольника у царсковаИзодрался парчевой кафтан!Побусело яро-золото,Скатны жемчуги рассыпались…У попов, чернцов да пископовЗасвербило в глотке посуху.Уж я чую гласы плачущиНа могилах-керстах[97] княжецких!Ой ли, ких по ких княженецки-их…– Гей, мои крайчие! Чару игрецу хмельного-о! Пей, любимый бахарь мой, сказитель. Ярата-син, Зейнеб?
– Ни лубит Зейнеб! Ни…
– Поднесли игрецу? Дайте же мне добрую чарапуху!
Атаман вслед за певцом выпил ковш вина, утер бороду, усы, огляделся грозно и крикнул:
– Гей, други! Пляшите, бейте в тулумбасы: вишь, матка-Волга играть пошла… Мое же сердце плясать хочет!
Волны громоздились, падали, паузок кидало на ширине, как перо в ветер над полями. Заиграли сопельщики; те, что имели бубны, ударили по ним. И в шуме этом нарастал могучий шум Волги… Атаман поднялся во весь рост, незаметно в его руках ребенком вскинулась княжна.
– Ярата-син, Зейнеб?
– Ни…
В воздухе в брызгах мелькнули золотые одежды, голубным парусом надулся шелк, и светлое распласталось в бесконечных оскаленных глотках волн, синих с белыми зубами гребней. На скамью паузка покатился зеленый башмак с золоченым каблуком.
– И – алла!
Страшный голос грянул, достигая ближнего берега:
– Принимай, Волга! Сглони, родная моя, последнюю память Петры Мокеева!
Сопельщики примолкли. Бубны перестали звенеть медью.
– Греби, – махнул рукой атаман, – играй, черти!
Светлое пятно захлестнулось синим, широким и ненасытным. Народ на берегу взвыл:
– Ки-ину-ул!
– Утопла-а!
– На том свету – царство ей персицкое!
Разин сел, голова повисла, потом взметнулись золотые кисти чалмы на шапке, позвал негромко:
– Дид Вологженин, потешь! Сыграй ты всем нам про измену братню…
– Чую, батюшко! Ой, атаманушко, оторвал, я знаю, ты клок от сердца! Не ладно…
– Играй, пес! За такие слова… Молчи-и! Люблю тебя, бахарь, то быть бы тебе в Волге…
– Ни гуну боле – молчу.
Старик начал щипать струны. Бубны и сопели атаманских игрецов затихли. Никто, даже сказочник, не смел глядеть в лицо атаману. Старик, надвинув шапку, опустил голову, что-то припоминал; атаман, нахмурясь, ждал. Вологженин запел:
Эх, завистные изменщики,Братней дружбы нелюбявые…– Шибче, дид! Волга чуять мне мешает!..
Старик прибавил голоса:
Дети-детушки собачии,Шуны-шаны, песьи головы,К кабаку вас тянет по свету,Ночью темной с кабака долой…– Го, дид, люблю и я кабак!
– Играю я, атаманушко, про изменщиков – ты же в дружбе крепок…
Вишь, измена пала на сердце…Пьете-лаете собакою,С матерщиной отрыгаете…Вы казну цареву множите,До креста рубаху скинувши.Знать, мутит измена душеньку?..– Чую теперь. Добро, выпьем-ка вот меду!
Подали мед. Атаман стукнул ковшом в ковш старика, а когда бахарь утер усы, атаман, закрыв лицо чалмой, опустив голову, слушал.
Эх, не жаль вам, запропащие,Животы развеять по свету,Кое сдуру срамоты деля,Оттого, что веры не былоВ дружбу брата своекровного!Все пойдет собакам в лаяло,Что ж останется изменнику?Шуны-шаны – кол да матица…[98]– Откуда ты, старой, такие слова берешь?
– Из души, батюшко, отколупываю печинки…
– Гей, други, к берегу вертай!.. – Прибавил тихо: – Тошно, дид, тошно…
– А ведаю я, атаманушко, сказывал…
– Не оттого тошно, что любявое утопло, – оттого, вишь: злое зачнется меж браты… Ну, ништо!
12В горнице Приказной палаты воевода Прозоровский сидел, привычно уперев руку с перстнями в бороду, локоть в стол, а тусклыми глазами уперся в стену; не глядя, допрашивал подьячего. Рыжевато-русый любимец воеводы, ерзая и припрыгивая на дьяческой скамье у дверей, крутя в руках ремешок, упавший с головы, доводил торопливо:
– Подьячие Васька с Митькой сбегли, ась, князинька, к ворам.
Строго и недоуменно воевода гнусил:
– Ведь нынче Разин сшел на Дон, – что ж они у воров зачнут орудовать?
– Робята бойкие и на язык и на грамоту вострые, ась, князинька, да и не одни они, стрельцы и достальной мелкой люд служилой бежит что ни день к ворам… то я углядел… Нынче вот сбегли двое стрельцов – годовальщики Андрюшка Лебедев с Каретниковым, пищали тож прихватили…
– Ой, Петр! Оно не ладно… Должно статься, Разин с пути оборотит?
– Мекаю и я, князинька, малым умом, что оборотит.
– Ну, так вот! Время шаткое, сидеть за пирами да говорей – некогда. Набери ты сыскных людей… Втай делай, одежьтесь кое посацкими, кое стрельцами и ну походите с народом, в стан воровской гляньте… Я упрежу людей тебя принять, ночью ли днем однако…
– Чую, ась, князинька!
– Поди! Слышу ход князя Михайлы.
Подьячего Алексеева сменил брат воеводы. Подняв гордо голову, поглаживая холеной пухлой рукой бороду, говорил раскатисто:
– Ну, слава Христу, сбыли разбойника! – Остановился против стола, где сидел воевода, прибавил хвастливо: – Я, воевода, брат князь Иван, дело большое орудую… Набираю рейтаров из черкес, и, знаешь ли, к тому клонятся мои помощники делу – купчины, персы, армяне – деньги дают, а говорят: «В Астрахани нынче перской посол, так чтоб его не обидели!» Я же иное мыслю: накуплю много людей да коней и всю эту разинскую сволочь от Астрахани в степь забью, чтоб пушины малой от ее не осталось: тайшей калмыцких да арыксакалов[99] на аркане приведу в Астрахань, вот! Что ты скажешь?
– Уйди-ко, князь Михайло, не мельтеши в глазах, мешаешь моим мыслям…
Князь Михаил, слыша строгий голос брата, отошел, сел на дьяческую скамью.
– Что ж ты, брат Иван Семенович, не молышь – ладно ли нет думаю?
– Прыткость ног твоих, князь Михайло, много мешает голове!
– Нече Бога гневить, похвалил воевода брата!
– Бога, Михайло, не тронь. Скажи – ты за стрельцами доглядывал нынче?
– Стрельцы, брат, у голов стрелецких в дозоре. Не любят, ежели кто копается в их порядках.
– Чтоб не было ухода в пути беглых к разбойникам, князь Михайло, посланы с Разиным доглядчики порядку в дороге… Знаешь ли оное?
– Нет, воевода-князь! Уже как хочешь, а за стрельцами глядеть не мое дело.
– Дело не твое, наше обчее… А слышал ли, что служилые и стрельцы бегут в козаки?
– Того не ведаю, брат!
– Не ведаешь? Вот то оно! А не глядел ли ты, Михайло князь, пошто мирные государевы татарски юрты с улусов своих зачинают шевелиться – на Чилгир идут?
– Ой, брат Иван! Татара зиму чуют… скотина тощеет, корму для прибирают место…
– Кому для? А не доглядывал ли ты, брат, пошто калмыки с ордынских степей дальные наезженные сакмы кинули, торят новые и новые сакмы ведут все на Астрахань?
– Нет, того я не знаю!
– Ты мало знаешь, князь Михайло! Конницу рейтаров верстай, то гоже нам.
– Что-то от меня таишь, брат Иван Семенович, а пошто?
– Пожду сказывать… Погляжу еще, думаю – тебя же оповещу: думаю я крепить Астрахань, и ты мне в том помогай.
– Ну, братец Иван! Астрахань много крепка, лишне печешься.
– Буду крепить город! Ты поди на свои дела – позову, коли надобен будешь.
13Атаман, одетый в есаульский синий жупан с перехватом, в простой запорожской шапке, сидел на ковре; задумавшись, тряхнул головой, позвал:
– Гей! Митрий!
Из-за фараганского ковра другой половины шатра вывернулся молодой подьячий, одетый казаком.
– Садись! – Казак сел. – Двинься ближе! – Бывший подьячий придвинулся. Разину видно стало ясно его лицо с рыжеватой короткой щетиной усов, с царапиной на лбу. – Это кто тебе примету дал?
– Я, батько, служил у воеводы, а ходил в таборы и к тебе грамоты писать… У воеводы есть такая сука, доводчик, Алексеев зовется, стал меня знать на тайном деле. И раз лезу я этта скрозь надолбы, а меня кто-то цап, да копыта у его сглезнули… Сунул его пинком в брюхо, он за черева сгребся, сел и заорал коровой. Я же в город сбег, укрылся…
– Вишь, заслужил! Чем же ловил он тебя?
– Должно, крюком аль кошкой железной…
– Ловок ты, да сойти к нам пришлось… Мы не обидим, ежли чужие не убьют… Исписал ли грамоты в море на струги?
– То все справлено, батько! Окромя тых, калмыкам исписал, как указал ты… На стругах Васька орудует – уж с устья к Астрахани движутся струги…
– То знаю я!
– Голов стрелецких перебили, к тебе мало кто не идет – все, а Васька хитер и говорить горазд, немчинов разумеет!
– Ладные вы мне попали, соколята! Вот, Митрий, пошто ты занадобился: вечереет, вишь, ты иди в слободу, что у стены города крайняя стоит, глянь в хату – нет ли огню? Только берегись! Сторожко иди… Воевода сыщиков пустил, не уловили б… Дойдешь огонь, пробирайся туда с оглядкой, дабы не уследили…






