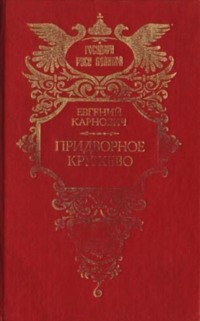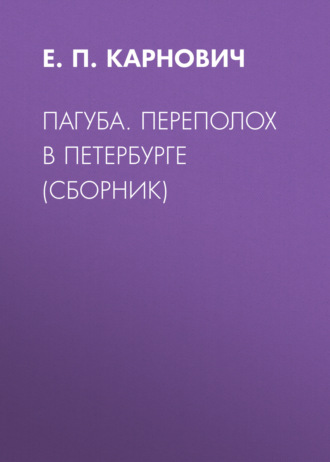 полная версия
полная версияПагуба. Переполох в Петербурге (сборник)
Лестока передернуло с досады.
– Позволю себе всепочтительнейше заметить вашему величеству, – начал Бестужев, – что, имея при своей высочайшей особе такого ученого и опытного врача, как его сиятельство граф Иван Иванович, вы напрасно благоволите употреблять сочиненные мною капли.
– Да если они мне помогают, так отчего же не употреблять их? Ведь вреда от них не может быть?
– Ни малейшего, ваше величество, но я никак не смел предполагать, чтобы… – говорил Бестужев.
– Унижение паче гордости, – вмешался Разумовский, дружески ударив по плечу Бестужева и желая досадить Лестоку, – и я, отец родной и добродей, твои капли по временам хлебаю и низко тебе за них кланяюсь. Ведь как они освежают! Проглотишь их, а потом потянешь в себя воздух, так и чувствуешь, что в тебя вливается какая-то прохладительная струйка. Особенно легко от них делается, как их пропустишь в глотку после хорошей выпивки венгерского. Нешто я неправду говорю? – обратился Разумовский к Петру Ивановичу Шувалову, участвовавшему поневоле в попойках фаворита.
Все, кроме Лестока, засмеялись при этом отзыве казака о пригодности капель, которые очень долго пользовались громкою известностью под названием «бестужевских». Изобретатель их сообразил, что теперь самая удобная пора заговорить о своем врачебном средстве, тем более что возраставший успех его капель может подорвать у императрицы значение ненавистного ему Лестока как врача, к которому государыня имела с давних пор исключительное доверие и который прежде лечил ее от всех действительных и мнимых недугов.
– Мне удалось, – с уместною в данном случае хвастливостью начал вице-канцлер, – изобрести этот поистине спасительный медикамент. В состав его входят самые простые ингредиенты, подвергнутые предварительной химической переделке. Приятны мне в особенности те похвальные отзывы, которых я все чаще и чаще удостаиваюсь от заграничных знаменитейших врачей. Из Германии, Франции и Англии мне делают самые выгодные предложения продать мой секрет. Пользительность моих капель не подлежит теперь никакому сомнению…
– Вы, чего доброго, – с нескрываемою злобою, нахально и едко перебил Лесток, – изобретете эликсир молодости, и тогда вы получите желаемое вами значение, тогда…
Лесток призамялся.
– Для получения мною желаемого значения, – с колкостью отвечал Бестужев, – я употребляю иные, а не врачебные средства.
Елизавета поняла смысл намека, сделанного Лестоком, беспрестанно раздражавшим императрицу своими дерзкими выходками. Елизавета могла переносить их, когда она была цесаревной и жила как частное лицо; но когда она стала самодержавной государыней, такие нахалы и хвастуны, каким оставался Лесток, привыкший не стесняться с нею в обращении, не только как близкий человек, но и как домашний врач, не могли быть уже терпимы ею. Он делался ей все более и более в тягость, и очень часто она подумывала о том, как бы поскорее избавиться от него.
Алексей Петрович поспешил прекратить начавшийся разговор, который при запальчивости Лестока мог кончиться крайне неприятно.
– Какое же вашему величеству угодно сделать распоряжение относительно портретов? – почтительно спросил он государыню.
Елизавета встала с кресел, осмотрела чрезвычайно внимательно еще раз портреты и подозвала к себе обер-гофмаршала.
– Ты, Михайла Петрович, напиши кому следует, – сказала она, указывая веером на портрет, написанный Соколовым, – что я опробую этот портрет для «градирования» (то есть для гравирования). Пусть повелено будет от меня и прочим мастерам, чтобы они делали и писали наподобие вышенаписанного портрета, под опасением строжайшего наказания за какое-либо отступление. Так и напиши; а то теперь мою персону изображают иногда в самом безобразном виде, в каком я никогда не бывала, да и надеюсь, что, по милости Божией, никогда и не буду.
Обер-гофмаршал низко поклонился в ответ на такое строгое распоряжение ее величества.
Затем государыня подошла к другому портрету, написанному Караваком. Она то приближалась к нему, то отступала и после тщательного осмотра подозвала к нему обер-гофмаршала.
– Объяви Караваку, – сказала она, проводя пальцем по полотну, – что правая рука написана здесь очень дебела, а особливо в запястье, и чтоб он вперед на прочих портретах, кои велено ему писать, в том имел осторожность, чтоб одна рука против другой препорцию имела.
И на это замечание ответом был почтительный поклон обер-гофмаршала, который в точности исполнил повеления государыни, сохранившиеся на бумаге до наших дней.
Затем императрица взглянула только на тот портрет Каравака, где она была изображена в виде крылатого гения, и не сказала ни слова.
«Увы, – вздохнув, с грустью подумала она, – пора таких портретов для меня безвозвратно миновала…»
– Ты, Михайла Петрович, – сказала она гофмаршалу, – не вели пока убирать отсюда этих портретов. Я приду сюда еще с моими дамами посмотреть их. Желательно мне знать, что они наболтают. После того ты вели этому приезжему мастеру явиться ко мне в назначенный час, и уже я сама скажу ему, как следует писать мою персону, и прикажу ему, когда он должен будет приходить на работу.
Поклонившись слегка всем присутствовавшим и с выражением особой благосклонности вице-канцлеру, государыня вышла из апартаментов. Следом за нею стали выходить и другие, а во главе их и Лесток, но Бестужев слегка удержал его за руку.
– Мне нужно сказать вашему сиятельству несколько слов, – проговорил вице-канцлер взглянувшему на него свысока, через плечо лейб-медикусу.
Алексей Петрович рассчитывал на то, что после особого внимания, оказанного ему императрицей, и преимущественно после похвалы его капель Лесток увидит в нем своего сильного соперника и сделается несколько уступчивее, но вице-канцлер чрезвычайно ошибся. Самомнивший француз-ганноверец был вовсе не такой человек, чтобы пойти на уступки перед своим противником.
– Я хотел доложить вашему сиятельству, – начал мягким голосом вице-канцлер, – по делу о Брауншвейгской фамилии. Венский двор убедительно, можно даже сказать – слезно просит об освобождении принцессы Анны Леопольдовны, но, к сожалению, ваше сиятельство изволите такой просьбе неодолимую помеху делать. Не соблаговолите ли вы принять по этому делу несколько иные рассуждения?
Лесток нагло смерил Бестужева с головы до пяток и только отрицательно покачал головой.
– Я несколько раз предлагал в совете, – продолжал Алексей Петрович, – отпустить Брауншвейгское семейство за границу на тех основаниях, что, во-первых, обещание, данное государыней в ее торжественном и всенародном манифесте, должно быть свято исполнено, иначе мы дискредитируем себя перед целым светом, и, во-вторых, потому, что для Российского государства будет гораздо безопаснее, если принц Иван Антонович будет жить вне его пределов, так как о нем в России все скоро забыли бы.
– Нет! Нет! – замахав рукою, вскричал Лесток. – Я только одно скажу на это в ответ вашему сиятельству: пока я жив и пока я что-нибудь значу при дворе, Брауншвейгской фамилии на свободе никогда не бывать. Россия может быть спокойна только до тех пор, пока Анна и ее семейство находятся в тюрьме, а если выпустить их на свободу, то тотчас же начнутся и факции и конспирации. Об этом я твержу императрице чуть ли не ежечасно, да и должен твердить это, охраняя ее спокойствие, а быть может, и самую жизнь. Теперь постоянно обнаруживаются замыслы восстановить Брауншвейгскую фамилию. Да, наконец, должен же я позаботиться и о себе: ведь мне было бы куда как неприятно прогуляться в Сибирь!
Бестужев хотел что-то возразить Лестоку, но лейб-медикус не дал сказать ему ни полслова.
– Каждый, кто только желает добра России, – горячился он, – не станет давать таких – скажу прямо – глупых советов государыне. Да и чего тебе, Алексей Петрович, хлопотать о принцессе, разве теперь тебе худо живется? Верно, тебя подбивает к этому венский кабинет через маркиза Ботта? – с дерзостью спросил лейб-медикус вице-канцлера.
– Точно так же, как тебя к противному подбивает Версальский двор через маркиза Шетарди, – резко отозвался, в свою очередь, Бестужев.
– Не забывай, что мне ты обязан тем, чем ты теперь сделался! – гневно крикнул Лесток, топнув об пол ногою. – Если бы я не предложил государыне оставить тебя на месте, ты теперь валялся бы в грязи.
Бестужев затрясся от злобы:
– Это правда, что ты просил обо мне у государыни, но сам я не просил тебя об этом. Я был вам нужен, и если остался на службе, то затем, чтобы служить моей всемилостивейшей государыне а не раболепствовать перед иноземным проходимцем.
Сказав это, Бестужев вышел из комнаты, сильно хлопнув за собой дверью.
Лесток рванулся было вслед за ним, схватившись за рукоятку своей шпаги, но вдруг остановился и громко расхохотался.
– Раболепствовать перед иноземным проходимцем! – повторил он, передразнивая Бестужева. – Скоро же ты, братец, забыл, как сам пресмыкался перед Бироном!.. Ха-ха-ха!..
XIX
В Западной Европе XVIII век, несмотря на все его стремления к просвещению, был веком заблуждений среди так называемого образованного общества. Едва ли когда-нибудь являлось наряду с философией и научными трудами столько шарлатанства, сколько являлось его в ту пору. Главными обманщиками, умевшими морочить и наводить туман даже на людей умных и образованных, могут считаться граф Сен-Жермен и граф Калиостро. И тот и другой, чуждые мистицизма Средних веков, не выдавали себя за людей, имевших сношения с нечистой силой. Такая похвальба была для той поры, когда они жили, слишком наглою ложью, которой поверили бы только очень темные люди. Тем не менее они облекали таинственностью и свою жизнь, и свои действия и приводили в изумление обширными денежными средствами, какими они, по-видимому, могли располагать. Изобилие у них таких средств заставляло думать, что они владели «философским камнем», имевшим силу обращать медь в золото. Но если те богатства, которые можно было приобретать таким способом, служили сильною приманкою, то еще с большим уважением относились к тем шарлатанам, которые без малейшей застенчивости уверяли людей легковерных, что они изобрели «жизненный эликсир» – такое средство, при употреблении которого можно прожить несколько веков не только без упадка сил, но даже не утрачивая нискольких внешних принадлежностей среднего человеческого возраста.
Понятно, что всякому и всякой желательно было и пожить подольше, и не стариться, и в числе таких лиц была императрица Елизавета Петровна, жизнь которой была обставлена и роскошью, и пышностью, и всевозможными земными благами. В сказаниях о ней, дошедших до нас, не сохранилось никаких известий о том, что она имела сношения с какими-либо чудодеями по этой части, но на основании многих данных можно заключить об ее веровании, что Лесток, неусыпно заботясь об ее здоровье, мог поддержать ее красоту и молодость, а вместе с тем и прибавить ей жизни, хотя и в очень скромных размерах.
Ничтожною личностью явился в Россию Арман Лесток. Бог весть как прослушавший, по словам его, медицинский курс, кажется, в Страсбургском университете, славившемся тогда по всей Европе по заготовке ученых мужей вообще, и преимущественно эскулапов. Неважную должность занял он на первый раз в России: он пошел лекарем в какой-то пехотный полевой полк, и на обязанности всех его коллег лежало, между прочим, бритье штаб- и обер-офицеров, состоявших при полку.
Молодому, честолюбивому и сметливому человеку такая должность приходилась не по душе, и он сумел из полка пробраться в Петербург и поступить на службу при дворе; но тут ему что-то не повезло, так как он «за неосторожное обращение» с дочерью какого-то придворного служителя был спроважен Петром Великим на житье в Казань. Неизвестно, к чему Лесток применил свое «неосторожное обращение» с молодой девушкой: при любовных ли своих похождениях, при какой ли хирургической операции или при прописке своей пациентке какого-нибудь сильнодействующего лекарства.
После побывки в Казани он вернулся в Петербург, попал в качестве хирурга ко двору цесаревны Елизаветы и здесь оказался как нельзя более на своем месте. Как разбитной малый, гуляка и весельчак, он составил себе обширное знакомство во всех петербургских кружках и потому хорошо знал все, что говорилось и делалось в Петербурге. Забирался он то в качестве врача, то в качестве гостя в дома иностранных дипломатов, приезжавших в Петербург, и в особенности сдружился с французским посланником маркизом Шетарди. Они видались друг с другом ежедневно, и Лесток задумал сместить с престола малютку-императора, чтобы посадить на его место благоволившую к нему его пациентку.
Правительница с мужем и со всем своим семейством, Миних, Остерман, Головкин и Левенвольд оказались его политическими пациентами и были отправлены в места пользования по рецептам, прописанным им лейб-хирургом Лестоком, сделавшимся всемогущим лицом в первое время по воцарении Елизаветы. Теперь ему казалось, что он уже избавился от всех своих прежних недругов, из которых в особенности был страшен Миних, собиравшийся если не произвести операцию над головой хирурга, положив ее на плаху, то, по крайней мере, прописать ему хорошее прохладительное врачевание в отдаленнейших местах Сибири. Лесток, однако, увернулся от таких предприятий сурового фельдмаршала и даже сам имел удовольствие спровадить очаковского героя туда, куда Миних собирался препроводить его.
Но вдруг у него явился неожиданный соперник, и кто же – Алексей Бестужев, которому он оказал прежде свое покровительство, да и какой еще соперник – не только по делам политическим, но и по медицинской части. Бывший полковой эскулап, сделавшийся теперь «архиатером», президентом медицинской коллегии, действительным тайным советником, графом и андреевским кавалером, никак не мог примириться с мыслью, что человек, не посвященный в таинства врачебной науки, стал брать над ним верх даже у императрицы только своими какими-то каплями. Между тем он, Лесток, мог предложить своей державной пациентке бесчисленное количество разных снадобий, о которых, как говорил он с досадою, Бестужев не имел ни малейшего понятия и был в сравнении с ним, Лестоком, круглым невеждою.
Забывая по временам вражду с вице-канцлером по политическим вопросам, Лесток с ожесточением против Бестужева вспомнил свою деятельность около Елизаветы в качестве врача, пользовавшегося ее полным доверием.
Его сильно огорчало, что в последнее время императрица не так уж часто обращалась к нему за советами и за его лекарственными снадобьями.
– Это ничего, Иван Иванович, само по себе пройдет, – начинала говорить она все чаще и чаще в ответ на предложения Лестока воспользоваться его медицинскими познаниями.
Хотя такие отказы и были ему не по душе, но сильнее всего его раздражало то, что он, входя к государыне, чувствовал бивший ему в нос освежающий запах «бестужевских» капель.
«Она, значит, принимает их и верит в медицинские познания этого неуча. Ну, как эта каналья возьмется лечить ее? – тревожно думал Лесток. – Ведь в самом деле его капли могут в известном приеме возбуждать деятельность нервов, а с примесью других веществ, наоборот, успокаивать их. Между тем в том возрасте, к которому подходит теперь государыня, такое лечение может считаться лучшим пальятивным средством».
Лесток, зная, что медицинское шарлатанство было самою главною причиною его успехов как врача у Елизаветы, побаивался, что, чего доброго, Бестужев начнет предлагать ей разные изобретаемые им средства, а она, убедившись уже в целебной силе его капель, поверит и в силу других предлагаемых им средств.
Он, однако, жестоко ошибался, думая так о вице-канцлере, который, чуждаясь всякого шарлатанства, был ученым химиком, превосходно знал физиологию – в тогдашнем ее, весьма ограниченном сравнительно с нынешнем, развитии – изучал медицину, как человек в высшей степени любознательный, не имея при этом в виду, как Лесток, никаких корыстных целей. Правда, он начал действовать против «архиатера» и как против врача, но только в совершенно ином направлении.
– Ваше величество, – говорил императрице иногда в своих беседах Бестужев, – медицина как наука – занятие, заслуживающее высокого уважения, но в руках шарлатанов она обращается в черную магию.
Бестужев без намерения, но чрезвычайно удачно вставил слова «черная магия». Такое название медицины привело в ужас императрицу и подействовало на нее гораздо сильнее, нежели все рассудительные и научные доводы вице-канцлера.
– В настоящее время, – продолжал Бестужев, – медицина делает беспрестанно новые открытия или новые применения существующих уже у нее средств. Но может ли знакомиться со всем этим человек, который, когда-то подучившись кое-чему, не только не следит за тем, что теперь делается учеными, но даже забывает и то, что он знал прежде?
Другие приближенные к императрице лица уясняли смысл подобных речей Бестужева, и государыня мало-помалу убеждалась, что ей нельзя доверяться такому ветрогону, каким Лесток был в молодости, и что теперь он должен быть сущим невеждой по своей части.
Повел Бестужев свою «злокозненную интригу» против Лестока и другим путем. Через Мавру Ивановну Шувалову, рожденную Шепелеву, бывшую любимой камер-юнгферой императрицы, он стал внушать императрице, что она, пользуясь превосходным здоровьем, напрасно лечится, что лечение только попусту изнуряет ее силы. Через нее же довел он до государыни, что всякие притирания и мази бывают чрезвычайно вредны, что они обыкновенно, уничтожая какой-нибудь прыщик, порождают упорные накожные болезни, которые или излечиваются с трудом, или иногда вовсе не излечиваются. Все эти суждения о врачевании, передаваемые императрице, были направлены собственно на Лестока. Он вскоре потерял у императрицы всякий кредит как врач, а потеря такого кредита была первым шагом и к падению его как государственного человека, пользовавшегося особым доверием государыни.
XX
В десятых годах прошлого столетия в императорско-австрийских войсках находился молодой офицер маркиз Антоний Ботта д’Адорно, итальянец, родом из Павии. Он считался не только сведущим и храбрым офицером, но и чрезвычайно ловким и тонким человеком, почему венский кабинет стал употреблять его и по делам дипломатическим, и в 1737 году маркиз был назначен австрийским посланником в Петербург. В это время он уже был фельдмаршалом-лейтенантом, гофкригсратом и камергером. В Петербурге он устроил, к большому удовольствию своего двора, брак принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским, родственником жены императора Карла VI. Хотя маркиз и пользовался на своем посту, как и все вообще австрийские и цесарские послы, особым почетом, но, чувствуя себя более воином, нежели дипломатом, он при открытии войны Австрии с Турцией просил венский кабинет отозвать его из Петербурга, так как очень желал участвовать в начавшейся войне. Воинственный азарт маркиза был удовлетворен, и он, повоевав с турками, возвратился в 1740 году в Петербург на прежнее свое место.
Хотя по расчету австрийской политики маркизу следовало поддерживать Брауншвейгскую династию на русском престоле, но он дал маху, допустив своего противника, французского посла маркиза Шетарди, самым деятельным образом участвовать в перевороте, произведенном в пользу цесаревны Елизаветы и клонившемся во вред Австрии. Новая русская государыня была отъявленной сторонницей Франции, враждовавшей с Австрией. Надобно, впрочем, сказать, что Ботта снял с себя предварительно всякую ответственность, сообщая венскому кабинету о предстоящей в России перемене и испрашивая в гофбурге, что ему делать. Но на такой запрос ему никакого ответа дано не было, а когда воцарилась Елизавета, то он получил из Вены инструкцию: держать себя в стороне от всякого вмешательства во внутренние дела России.
– Так как я пользовался особым расположением бывшей правительницы, то я желал бы знать: будет ли приятно ее величеству императрице мое дальнейшее пребывание при ее дворе? – обратился Ботта с запросом к великому канцлеру князю Черкасскому, и на этот запрос императрица приказала объявить маркизу, что «он ей наиболее угодный министр».
По наружности Елизавета относилась к нему чрезвычайно благосклонно, приглашала его к себе на вечера и играла с ним постоянно в карты. Во время игры маркиз не раз сетовал, что петербургский климат для него вреден. Говорил он также, что хотя и считает за особенную честь быть представителем римско-немецкого императора при дворе ее величества, но, прослужив так долго в военной службе, он до такой степени свыкся с нею, что желал бы снова вступить в нее. Разумеется, что императрица выражала свое сожаление, что ей придется расстаться с человеком, который приобрел и ее любовь и ее уважение. Маркиз настаивал, однако, на своем отзыве, который, наконец, и состоялся, и он в декабре 1742 года, в бытность государыни в Москве, имел у нее прощальную аудиенцию. На этой аудиенции государыня рассталась с маркизом дружественным образом.
Думала, однако, Елизавета о хитром итальянце совершенно иначе. Она была уверена, что Ботта жил в России, надеясь улучить благоприятную пору, чтобы произвести новый переворот для восстановления павшей правительницы. Не забывала Елизавета и о тесной дружбе Ботта с Левенвольдом. Маркиз жил с ним в Петербурге по соседству и видался ежедневно. Она была почему-то уверена, что венский кабинет назначил в распоряжение маркиза 300 тысяч рублей для подкупа министров, и, подметив, что вице-канцлер мешался, бледнел и краснел, когда при нем говорили о маркизе, была уверена, что Ботта дал ему 20 тысяч рублей, о чем подшепнул ей ловко Лесток.
В особенности же раздражало государыню то, что Ботта, исполняя полученные им из Вены инструкции, настойчиво ходатайствовал о скорейшем отъезде бывшей правительницы из Риги за границу.
– Ботта, – говорила однажды Елизавета вице-канцлеру, – не имеет никаких причин, чтобы так много думать о себе, и если он будет важничать, то может отправиться куда ему угодно. Мне дороже дружба людей, которые не оставили меня в тяжелую пору, чем расположение нищей королевы венгерской.
Не нравилось также Елизавете, что Ботта вел дружбу с приверженцами прежнего правительства: с Лопухиным, с графиней Ягужинской (сестрою Головкина), Лилиенфельдами, которые хотя и не были привлечены к делу Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, но считались так называвшимися в ту пору «намеченными» людьми, то есть такими, за которых следовало взяться при первом же на них указании или ввиду обстоятельств, наводящих на них какое-либо подозрение.
Часто собиравшийся небольшой кружок из этих лиц с грустью вспоминал о временах правительницы, когда было для них не то, что теперь, и высказывал желание, чтобы принцесса Анна, если уж нельзя восстановить ее во власти, по крайней мере, не томилась бы в тяжелом заточении.
Среди этих лиц, роптавших на правительство, Ботта, поборник интересов Брауншвейгского дома, был как нельзя более кстати. Он горевал вместе с ними, а порою с дипломатическою двусмысленностью делал намеки, что в скором времени все должно будет перемениться, давая тем разуметь, что царствование Елизаветы, при пособии ее недругам со стороны венского кабинета, должно будет прекратиться.
Такие намеки хотя и утешали Бестужеву и Лопухину, но им становилось страшно при мысли, что Ботта затевает в подражание маркизу Шетарди какое-нибудь отважное дело. Они предвидели, что при неудачном исходе такой затеи должны будут жестоко поплатиться все не только близкие к нему лица, но и те, которые были с ним в хороших отношениях и только вели с ним обыкновенное знакомство.
– Нет, господин маркиз, «не заваривайте каши», – просили его испуганные дамы. – Бог знает, удастся ли вам сделать то, что сделал Шетарди. Сообразите только, что в случае неудачи кроме вновь захваченных ваших единомышленников будут в ответе и бывшая правительница, и все прежние ее доброжелатели.
– Снова возьмутся за Левенвольда, – с ужасом проговорила Лопухина.
– И за моего несчастного брата, – со слезами на глазах добавила Бестужева. – Начнутся страшные пытки, и их, теперь ничему уже не причастных, обвинят во что бы то ни стало. Я вся дрожу при одной только мысли о той ужаснейшей казни, какая неизбежно постигнет их.
– Нет, маркиз, бога ради, не затевайте ничего. Это будет бесполезно, – упрашивали обе дамы самодовольно улыбавшегося Ботта.
Опасения, внушаемые им австрийским посланником, были, однако, напрасны. Развязный с ними на словах, Ботта не думал предпринимать ничего решительного на деле, тем более что, ожидая отзывных грамот, готовился уехать из России, предоставляя заступившему его барону Нейгаузу действовать в пользу Брауншвейгской фамилии так, как сам барон найдет нужным.
Впрочем, не только Нейгаузу, но и маркизу Ботта д’Адорно трудно было тягаться с влиянием французской политики, бравшей при Елизавете заметный перевес над австрийскою, сторонником которой был вице-канцлер Бестужев. При неспособности канцлера князя Черкасского к ведению дел он имел в своих руках всю дипломатическую переписку. Кроме того, так как Черкасский не говорил ни на каком другом языке, кроме русского, то иностранные послы не могли вести с ним непосредственно словесных переговоров.