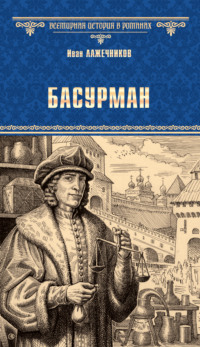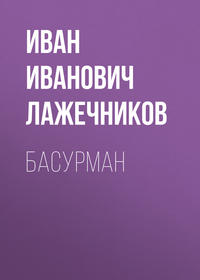полная версия
полная версияПоследний Новик. Том 2
Осень подоспела, чтобы своими непогодами прибавить к мрачному состоянию этой страны. Главная русская армия давно уж покинула опустошенный ею юго-восточный край Лифляндии и перешла на север к Финскому заливу; разве мелкие наезды понаведывались изредка, не осмелился ли латыш вновь приютиться на родной земле, как злой ястреб налетом сторожит бедную пташку на гнезде, откуда похитил ее птенцов. Вслед за военными дозорщиками рыскали стада волков, почуявших себе добычу. В это время Владимир покинул мызу господина Блументроста.
Сделаем перечень его несчастий.
Он лишился единственного своего товарища, слепца, восемь лет ходившего с ним рука об руку, восемь лет бывшего единственным его утешением; он разлучен с Паткулем, который один мог бы помочь ему и не знал безвременья для слова правды и добра перед царями; обманут он в минуты лучших, сладчайших своих надежд – у порога родины немилосердо оттолкнут от нее на расстояние безмерное. Русские, соотечественники, гонят его; шведам, призревшим его новым отечеством и братством, он изменил. Все высокое, прекрасное, им воздвигнутое, разбито в прах; все злодейское, им сделанное, воскресло новою жизнью и растет перед его совестью. Прошедшее – широкий путь крови, скитания, нужд; будущее – тесное, жесткое домовище, откуда он, живой, с печатью греха и отчуждения, вставая, пугает живых, откуда он не может выйти, не встретив топора палача или заступа старообрядческого могильщика. Что осталось ему? Плакать? Он уже выплакал свои слезы… Прочь все прекрасное, все доброе! Ад – его достояние; ад легко отыскать с таким проводником, как мщение! Отныне злобно смотрит он на жизнь и на человечество; но между последним сердце его отметило одного человека метою кровавою. Его-то радостно опутает он своими объятиями, сшибет со скудельных[55] ног и с ним вместе рухнет в бездну вечного плача и скрежета зубов. Этот человек поднимает его поутру с ложа, ходит с ним неразлучно, сидит с ним за столом, у изголовья его постели, будит его во сне; этот человек – Андрей Денисов.
– Мщение! – вскричал Владимир, разбив свои гусли. – На что вы мне теперь? Вы не выражаете того, что я чувствую. Мщение! – сказал он Немому, расставаясь с ним и пожав ему руку пожатием, в котором теплилась последняя искра любви к ближнему. Добрый Немой, не понимая его, с жалостию смотрел на него, как на больного, которого он не имел средств излечить, крепко его обнял и проводил со слезами. После него и Немой остался на мызе круглою сиротою!..
Наружность Владимира была мрачна не менее души его. Дикий, угрюмый взор, по временам сверкающий, как блеск кинжала, отпущенного на убийство; по временам коварная, злая усмешка, в которой выражались презрение ко всему земному и ожесточение против человечества; всклокоченная голова, покрытая уродливою шапкою; худо отращенная борода; бедный охабень[56], стянутый ремнем, на ногах коты, кистень в руках, топор и четки за поясом, сума за плечами – вот в каком виде вышел Владимир с мызы господина Блументроста и прошел пустыню юго-восточной части Лифляндии. Он приближался к Дерпту и поворотил вправо. Глаза его разыгрались диким восторгом.
– Он велел мне приходить к себе. Иду к нему, гость не на радость! Сяду на большое место под образами, насыщусь его хлебом с солью, напьюсь медов сладких и – отблагодарю за гостеприимство. Долго не забудет званого посетителя! – Так говорил Владимир, подходя к Носу, одной из деревень, которыми староверы обсели Чудское озеро. Мертвая осенняя природа; тяжелые, подобно оледенелым валам, тучи, едва движущиеся с севера; песчаная степь, сердито всчесанная непогодами; по ней редкие ели, недоростки и уроды из царства растений; временем необозримые, седые воды Чудского озера, бьющиеся непрерывно с однообразным стоном о мертвые берега свои, как узник о решетку своей темницы; иссохший лист, хрустящий под ногами путника нашего, – все вторило состоянию души Владимира. Вот он уж и в деревне.
Латыши, чухны проводят обыкновенно унылую, тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко одна от другой, хижинах, вдали от больших дорог и мыз, будто и теперь грозится на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, длинных деревень, где тысячи любят жаться друг к другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться; где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел Владимир, можно было сейчас узнать, что ее обитатели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких изб, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими коньками, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный осьмиконечный крест[57]. Наружность домов содержалась в необыкновенной чистоте; особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и поскоблены. Тишина, царствовавшая в селении, не удивила бы Владимира, знавшего, что в жилищах раскольников наблюдается всегда строгое благочиние, если бы эта тишина не походила на какую-то мертвенность. Никого не было видно на улице и в огородах. У двух-трех домов брякнул он по нескольку раз с расстановкою большим железным кольцом о бляху такого же металла; несколько раз постучался довольно крепко у окон палочкою и прочитал жалостным голосом моление:
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Хоть бы голос женщины откликнулся ему! Где могли быть жители Носа в гулевую пору, в обеденные часы?
Не мало удивился он, когда ворота у одного дома без труда отворились, лишь только он осмелился приподнять щеколду и толкнуть слегка полотно их. На дворе тощий скот пожирал навоз; собака, такая худая, что лопатки ее выставлялись острыми углами и можно было перечесть все ее ребра, шатаясь, выползла из конуры и встретила пришельца сиповатым, болезненным лаем. В сенях никого, в избе – тож. Посуда, обыкновенно содержимая у раскольников в большой чистоте, была разбросана в беспорядке по столу и залавкам. Печь, в изразцах которой наверчено было множество дыр, чтобы, во время молитв, благодать удобнее проходила в горшки и очищала кушанье, покупаемое на торгах, была не топлена. Иконы в избе ни одной. Без труда вошел Владимир на соседний двор: в нем также пустота; в третьем, в четвертом тоже. Далее нашел он умирающего младенца.
– Счастлив, что кончаешь жизнь, не понимая ее! – сказал Владимир и отвернулся от раннего страдальца.
Наконец у звонницы[58] представилось ему что-то похожее на живое существо. Это была молодая женщина, лежавшая на голой, сырой земле и почти недвижимая. С трудом могла она, однако ж, объяснить нашему страннику, что она дочь тутошнего уставщика[59], удостоена была в грамотницы[60], заменяла нередко батьку (отца духовного) в часовенном служении; но что с недавнего времени лукавый попутал ее: полюбила молодого, пригожего псалмопевца и четца. Это бы еще не беда. Грех этот можно б искупить несколькими стами начал[61]; но вот что ее погубило. Отец ее любезного, побывав в другом согласии, вывез оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни Носа, а именно: он стал принимать от феодосеян титлу, Пилатом[62] на кресте написанную: IС Назарянин, царь иудейский. Носовцы же (поморского согласия) писали титлу: царь славы, IС сын Божий, и потому, предав анафеме новщиков[63], выгнали их из деревни. Псалмопевец, прежде вечной разлуки с любезною грамотницею, захотел с ней проститься. Роковое свидание назначено в ближнем бору. Сердце у раскольницы такое же мягкое, как и у женщин мирских: она исполнила волю милого. Надсмотрщица[64] подглядела за ними и поспешила избавить несчастную из сатанинских когтей федосеевщика, рассказав обо всем отцу ее. Озлобленный родитель сам, своими руками выдал ее согласию. Тысячи земных поклонов, ужасный пост, побои, истязания разного рода освободили грешную от мучений ада. Ноги у ней были отбиты; одною рукой она не владела; земля подернула губы ее.
– Теперь, – прибавила она, – очищенная, жду Страшного суда.
– Где ж православные? – спросил Владимир.
– В бору, – отвечала грамотница. – Поспешай и ты туда ж, чтобы страшный час не застал тебя в суете.
Не понимал Владимир, о каком часе говорила несчастная. Он сделал ей несколько вопросов, но, ослабевшая от усилий, которые употребила, чтобы рассказать о своей судьбе, она могла только указать на бор, видимый из деревни, и погрузилась в моление.
«Пойду искать следов жизни, более здоровой и сильной, – думал Владимир, обратившись, куда ему указано было, – авось заражу ее моими страданиями или потешусь над глупым человечеством».
Еще издали представилось ему странное зрелище. Поприща[65] за два от деревни, в мелкорослом, тщедушном бору, на песчаных буграх, то смело вдающихся языком в воды Чудского озера, то уступающих этим водам и образующих для них залив, а для рыбачьих лодок безопасную пристань, стояло сотни две гробов, новеньких, только что из-под топора. Несмотря на отвращение, какое человек чувствует к трупам себе подобных, особенно чужих людей, Владимир решился подойти к этому погосту.
«Какая язва, – думал он, – уклала в домовища всех здешних жителей? Смерть, когда она не послана гневом Божиим, утомилась бы в год засеять такое поле; а ныне, видно, наполнила она их так скоро, как проворный жнец укладывает снопами свою полосу, как ловкий пес загоняет стадо в овчарню. Однако почему гробы не опущены в могилы? Исчезнувший с земли должен и истлеть в ней, чтобы не оставить от себя ничего, кроме имени человека. Кто ж и когда успел построить эти домовища? Поэтому жители Носа заранее готовились умереть. Не перешли ли они в морельщики и, может быть, желая приобресть мученический венец, сами себя умертвили?» Размышления эти были прерваны ужасным воем, плачем и визгом, поднявшимися вдруг из гробов, как скоро Владимир подошел к ним.
– Грядет, грядет! – вопило множество.
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! – раздалось вокруг него на разные жалобные голоса. Иные читали сами себе отходную; другие молили о помиловании; некоторые, закрыв глаза, скрежетали от страха зубами. Сначала испугался и сам Владимир, обхваченный таким хором; но, вглядевшись пристально в фигуры, укладенные, как мумии, в ящики, из которых большая часть была не закрыта, он едва не захохотал, несмотря на состояние, в котором находился. В домовищах лежали жители Носа, разного пола и возраста, окутанные в саваны и спеленутые – молодые розовыми покромками, а старшие голубыми, так что из перевязки составлялись три креста: один на коленах, другой на брюхе, а третий на груди. Бумажный блестящий венец, с осьмиконечными крестами, обвивал их чело; в головах стояли медные литые образа. У некоторых женщин покоились младенцы на груди, у других с криком вырывались. Дети требовали хлеба, обступая отцов и матерей, которые с жестокостью их отталкивали. Владимир понял тотчас, в чем состояло дело; с важностью обошел вокруг живописного кладбища, стал потом на средине и воскликнул громовым голосом:
– Почто вы здесь?
На это воззвание закричали многие:
– Это антихрист: он смущает нас. Укрепитесь, о братия, в страшный час молитвою.
Владимир поднял вверх правую руку, из которой составил двуперстное крестное знамение, и опять воскликнул:
– От имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа вопрошаю вас: почто вы здесь?
– Яков Ковач! – сказал тут один с выпятившимся из гроба брюхом, дрожа от холода, а может быть, и проголодавшийся. – Он речет именем Господа.
– Воистину так! – отвечал тот, к кому обращена была речь.
– Поведаем ему, почто мы здесь вкупе.
– Пора бы, – примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба, – пора бы уж давно, по вычислению уставщика Антипа, совершиться пророчеству.
– Посмотрим, так ли солнце течет? Нет ли замешательства в мере часов? – присоединил свой голос четвертый, последуя примеру своих братий и посматривая на небо, на котором в это время из-за свинцовых туч проглянуло солнышко.
– Кажись, все по-старому. Антипка обморочил нас! – закричало несколько голосов.
– Подавайте Антипку! побьемте его каменьями. Бросимте его в воду! – вопили многие.
Среди этого смятения выпрыгнул из гроба один высокий мужик, разорвал на себе смертные оковы, побежал в противную от селения сторону, и, пока разоблачались братья его, спеленутые, подобно куклам, он успел скрыться из виду.
– Еретик! лжеучитель! – вскричали многие вслед ему. – Не хотел искупить своего прегрешения мученическою смертию. Достоин есть отлучения от церкви и общежительства!
– Почто смущаетесь, братия мои о Господе? – сказал Владимир, приняв на себя постный вид. – Я странствовал много по святым местам, иду теперь от Гроба Господня к соловецким чудотворцам и несу вам, по пути, оружия, каковыми подобает подвизаться против сатаны, дышащего зельною яростию на христоименитое достояние.
Слова эти, как талисман, подействовали над живыми мертвецами. Толпы собрались около благовестителя. (Надобно здесь заметить, что раскольники имеют слепую веру к пришельцам греко-российского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами.) Иные, не успев еще разрешить ноги свои от смертных уз, но желая скорее поклониться святому мужу (которого за несколько минут готовы были побить каменьями, как Антипа), бросались вперед, запутывались в саванах, падали друг на друга и возились по земле. Другие едва переступали с ноги на ногу, имея руки связанные, и представляли таким образом движущиеся чурбаны. Некоторые, крепче прочих стянутые, лежали в ящиках своих, будто чающие движения воды, и жалостно молили о помощи. Прибавьте к этому очерку бороды разного покроя и цвета, высунувшиеся из пелен; бумажные пестрые венцы, украшавшие маститые лбы; отрывки саванов, которые тащились по пятам и на которые наступали ревностные братья, – и можете докончить смешную картину восстания носовцев из мертвых. Заметно было, однако ж, что человека два-три вовсе не показывали знаков жизни и, вероятно, от холода, голода и страха упокоились на вечные времена. Обступившие Владимира носовцы рассказали ему наконец, что за несколько дней прошел чрез их общежительство киновиарх Выговского скита и чиноначальник поморян Андрей Дионисиев. Он поведал им, что антихрист народился уже тридцать лет, три месяца и три дня и что Иисус Христос приидет вскоре на облаках судить живых и мертвых.
– Мы просили уставщика Антипа, – прибавляли рассказчики, – вычислить нам, в кой именно час подобает быти Страшному суду. Притаился было вначале собачий сын, будто боится нас перепугать, и ну отговариваться, а мы плотнее к нему: скажи-де нам, не моги утаить, всю правду-истину. Взялся еще раз вор Антипка за книги; три дня, три ночи рылся в них, отыскал якобы ключ к таинствам и поведал нам в третий день, что ныне-де, в пятницу, в полудни, неминуемо быти пришествию господню. Побросали мы все житейское, поделали гробы и полегли в них вчера, изготовясь молитвою и постом к страшному часу. Но знать…
– Обманул вас, о братия, Андрей Дионисиев из собственной корысти, – перебил Владимир. – Обманул вас и уставщик, подкупленный им. Разойдется по христианству поморскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится.
– Ах! он такой-сякой! – вскричала толпа. – Приди-ка он к нам!..
– Вонмите мне, – перебил опять Владимир, возвысив голос, – вы все, кои здесь предстоите и коих имена вписаны в книзе животней! Афонский монах, сто лет находящийся при Гробе Господнем, прислал вам со мною мир от Бога и свое благословение. В беседе о временах и летах он поведал мне, опираясь на сию трость… – При этом слове слушатели бросились на посох, который держал Владимир, и в один миг с жадностию разделили его по себе на мелкие части. Владимир не смутился и продолжал: – Святой отец поведал мне, что антихрист уже шестьдесят лет народился.
– Смотри-ка, – кричали многие, – скрадено три десятка годов. Три десятка! легко молвить! Ну, счастлив, что подобру-поздорову уплелся, а то бы похлебал свежей ушицы!
– Святой отец поведал еще, что искуситель примет на себя образ киновиарха, что смуты его только в нынешних летех зачались, а Страшный суд настанет не прежде сорока девяти лет, по вычислению на семи седьмицах.
Многое еще толковал им Владимир об антихристе, в которого ересиарх Денисов мог бы смотреться, как в зеркало. Слушали проповедника жители Носа, разинув рты, благодарили его за добрую весть, упрашивали его к себе в уставщики и обещали со временем произвесть в чиноначальники. Чувство мести заставило его согласиться на предложение раскольников.
Почившие вечным сном и, следственно, кончившие свою роль на этой сцене человеческих заблуждений преданы, по обычаю, при всей братии, достойному погребению; после чего гробы живых брошены в озеро. Флотилия эта, оттолкнутая от берегов благоприятным ветром, поплыла по необозримым водам и вскоре исчезла из виду. Владимир был отнесен в мирской дом, торжественно сопровождаемый многочисленным народом, с пением:
«Вечере водворится плач и заутра радость».
«Смотря теперь на мое торжество, – думал он, – кто не сказал бы, как легко управлять народом суеверным и невежественным! Но что скажет тот, кто видел бегство уставщика Антипа?»
Можно было заранее предвидеть, что Владимир недолго погостит у носовцев. Причину этого можно угадать. Пылкая душа его не терпела принуждения. Созданная непокорною, вольнолюбивою, умевшая, как мы имели случай высмотреть, с помощью Бира порвать на себе свивальники невежества, она не могла подчинить себя стесненной жизни раскольников. И как иначе? У них любовь к Богу, исчисленная на лестовках и земных поклонах; вера, заключенная в двухперстном знамении, в осьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам; добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унизительном презрении к ближнему, не согласному с их мнениями, – вот дух и учение, которым водились общества раскольников! Такие правила не могли не возмутить души Владимира. Он устыдился своего притворства и, обозначив себя перед носовцами, успел заслужить их неудовольствие. Часто не выполнял он начал, был рассеян в моленной, забывал во время каждения ладаном вынимать из пазухи крест и подносить его с поклоном к кадильнице или читать молитву над сосудом с пищею, чтобы нечистый в него не наплевал. За такое нарушение правил своего требника носовцы сначала косились на него, потом выговаривали, что он суетится, и, когда он им объявил, что отправляется к соловецким чудотворцам для выполнения данного обета, очень довольны были, что без дальних хлопот могут от него освободиться. Гнать его не смели, потому что он умел приобресть над ними некоторую власть своим красноречием, привлекавшим к нему слушателей даже из дальних мест, и особенно потому, что денежными вкладами способствовал к выстроению часовни и столовой. Со стороны ж Владимира цель его была достигнута. Не довольства жизни пришел он искать у раскольников, а только мести. Месть его на берегах Чудского озера выполнена. Он успел не только носовцев, но и соседние деревни возбудить против учения и владычества Андрея Денисова до такого ожесточения, что в один день деревни эти, выбрав от себя представителей, послали их в Нос и на общем сходбище положили: «С заонеги разделение иметь; с ними ни есть, ни пить, ни на молении стоять; поморских учителей не слушать». К этому разделению много способствовала весть, что с Денисовым ходит жид под личиною чернеца поморского, обращающий православных в жидовскую веру.
Итак, Владимир, сделав свое дело между чудскими раскольниками, расстался с ними. Вся зима проведена им в странствиях по следам ересиарха, мнимым или настоящим, смотря по известиям, какие получались. Чем далее пробирался он к северу, тем более находил ожесточенного суеверия. В одном месте запащиванцы, утомленные поклонами, которых клали в день по триста земных и семьсот поясных, изнуренные сорокадневным постом в запертом сарае, умирали с голоду или пожирали друг друга. В ином месте закупывали десятками перекрещенцев[66] разного возраста и пола. Это называлось обновление водою. Обновление огнем было не менее ужасно[67]. Желая очиститься от грехов и стяжать мученический венец, они толпою входили в одну избу, обкладывали ее хворостом, который зажигали со всех сторон, и таким образом погибали в пламени, воспевая каноны и расточая проклятия на никонианцев.
Зима по последнему санному пути убралась восвояси. Без нее то-то пир начался у природы! Песни жаворонка, шум выпущенных из плена вод, зеленые ковры, разостланные на проталинах, все заговорило о весне. Владимир по-прежнему был пасмурен и в прежнем ожесточении шел на север, чтобы найти своего гонителя. За Ямбургом встретили его слухи, что русские уже прошедшею осенью появились у Ладожского озера, осадили и взяли Орешек (Шлиссельбург), что в Корелах олонецкий поп (Иван Окулов) с охотниками разбил шведов, что царь своею могучею волею целиком проложил себе дорогу чрез леса, болота и воды от Ледовитого моря до Финского. В проезд Петра мимо Повенца пустынножители Выговского скита изготовили было в часовнях бочки со смолою, решась пострадать за свою веру, а другие разбежались по лесам и болотам. Царь успокоил их словами: «Пускай живут!», а когда они собрались на прежнее житье, послал их в заводы работать. Наконец Владимир услышал, что государь обглядывает берега Финского залива.
– Где только зверь ходит и рыба плавает, там идут у него войска, – говорили вестовщики, – леса режет, как траву косец, переносится через трясины, будто на ковре-самолете, а коли воды сердитых озер заблажат, сечет их немилосердо – и затихают!
При таких речах Владимир задумывался; грудь его сильно волновалась; тяжело вздыхал он. Мысль, что он еще не испытал одного, последнего, средства для свидания с милым, незабвенным отечеством, цели всех его желаний, бродила в его голове. Сердцу его отозвались слова Паткуля: «Прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и его великодушия!»
– Прямо к нему! – твердил он, как человек, которому указали следы к отысканию драгоценной для него потери.
Душа его снова вспыхнула любовию к родине и надеждою. Все опять забыто: и угроза ересиарха, и моления Софии, и месть, возобладавшая им так сильно, и казнь, ему назначенная. Он видит только Петра Великого, а за ним золотые главы церквей московских; он стоит у порога знакомого терема…
Глава вторая
Встреча
К демону обеты!
Во глубь геенны совесть, добродетель!
Будь воля неба! мести я хочу,
Кровавой мести!
«Гамлет», перевод М. В.Первое мая 1703 года подарило Петра первою морскою пристанью на Балтийском море, а русских – открытым листом в Европу: крепостца Ниеншанц, с гаванью на берегу Невы, в нескольких верстах от устья этой реки (там, где ныне Большая и Малая Охта), сдалась, после пятидневной осады, капитану от бомбардир Петру Михайлову (в этом звании находился тогда государь).
Немногими днями позже, утром, Владимир, пройдя Саарамойзу[68], к удивлению его, не опустошенную, остановился на высоте, ближайшей к Неве, где сходились дороги из Ямбурга и Новгорода, недавно проложенные. Перед ним на великом пространстве расстилалось болото – мшистое ложе, с которого некогда сбежало море! Мрачная зелень сосновых лесов, изредка перемежаемая серебристым березняком, волновалась по тощей равнине этой, отделяла черной каймой ижорский берег от голубых вод Невы и моря и обрисовывала купу островов и суровый берег карельский. Нева одна роскошничала жизнию в этой мертвой пустыне. Обнимая острова Койво-сари[69], Кирфви-сари[70], Луст-Эланд[71] и многие другие, она то пряталась за ними, то выставлялась из-за них разбитым куском зеркала, то блистала в широкой раме берегов своих. Множество речек продиралось сквозь мхи болот и спешило в Неву, чтобы вместе с нею убежать в раздолье моря. Кое-где по островам выглядывали рыбачьи хижины. Вдали, перед устьем реки, поднимались из моря темные глыбы, обвитые утренними туманами. Волны Бельта сердито бежали на них, как бы желая стереть их с его лица. Неволя или расчеты одни могли загнать человека в эти места: так непривлекательны они казались!
От подошвы горы, на которой остановился Владимир, шла торная дорога в Ниеншанц: множество троп, разыгрывавшихся влево и вправо, вело через болота и леса к берегу моря и Невы. Подумав несколько, по которой ему идти, он назначил себе тропу, поворачивавшую тотчас с битой дороги влево.
Лишь только спустился он с горы и, взяв несколько вбок от нее по большой дороге, готовился повернуть на тропу, как послышал за собою колокольчик. С трепетом сердечным оборотился он и увидел красивую колымагу, запряженную в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми; за колымагою тянулось несколько кибиток. Сидевшие в них, судя по одежде, были русские и, вероятно, составляли поезд знатного боярина. Передний ямщик так искусно владел лошадьми, что, спуская повозку с горы, одним магическим словом, для которого русский язык не имеет знаков, останавливал лошадей на самых крутизнах. Когда он подъехал ближе к Владимиру, можно было различить в нем красивого, статного малого. Румянец здоровья вспрыснул его щеки; в карих глазах, обведенных черными дугами бровей, заметен был ум и беззаботное довольство; движения его были размашисты. Он был обстрижен гладко в кружок, на голове была надета набекрень поярковая шляпа с павлиным пером, воткнутым за черную бархатную ленту. Солнышко играло на золотом галуне его кумачной рубашки; за пестрым кушаком, туго опоясывавшим его стан, заткнуты были черные рукавицы и коротенький кнутик. Пристяжные завивались и с нетерпением грызли землю; коренная спалзывала на задних ногах и, досадуя, что ей не давали воли, потряхивала головой из-под огромной дуги, с азиятским вкусом раскрашенной яркими цветами. Выехав на большую дорогу, молодой ямщик приподнял шляпу с павлиным пером, стряхнул на себе волосы, надел шляпу на один бок, приложил к уху правую руку, и голос его залился унылою песнею: