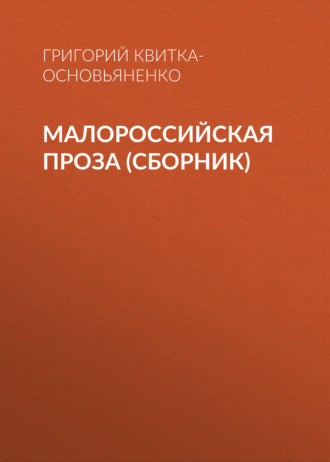 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
– По глину, по глину.
Навстречу ему другой, также выкрикивает:
– По горшки, по горшки.
Дети, потеряв матерей, пищат, там воет собака, там придушили поросёнка, и он визжит на весь базар, а свинья, хрюкая, пробирается промежду людьми; там перекупки хватают за полы парубков, школяров:
– Поди сюда, дядюшка!
– Возьми у меня паляничку.
Кричат:
– Вот бублики горяченькие, с мачком… Вот паляница легошенькая, только что вынута из печи…
Не разберешь, что они там и кричат, потому что повсюду шум, говор, крик, гам, стукотня, точно, как в мельнице, когда на все камни мелет и вдобавок ступы стучат. А там слышна скрипка и цимбалы[57]. Матвей Шпоня продал соль, рассчитался и грошики счистил, нанял троисту музыку и водится с нею на ярмарке. Уж и шапку чёрт взял, где-то кинул ее на кого-то и не хватился. Идет и поет, что есть голосу, а где лужа, прямо в нее и приударит тропака, забрызгался, захлестался… Эге! Да не мешай ему, он гуляет… В одной руке штоф[58], в другой чарка; кого не встретит, останавливает и кричит:
– Пей, пеский сын, дядюшка любезный! Пей. Матвей Шпоня гуляет, пей в его голову, чтоб ты подавился и был здоров многие лета.
Прежде выпьет сам и потом потчивает; если же тот не захочет, так о землю горелку, а его бранит – ругает, сколько душе угодно, и пристанет к другому, а сам кричит:
– Шинкарь! Подавай Шпоню снова. Музыка, играй московской метелицы! – и пошел далее. Идет и увидел дегтярей[59]. Бултых в кадку с дегтем и кричит:
– Дегтярь, не тужи.
Шпоня отвечает деньгами и кинет ему полнехонькую горсть денег, а сам еще спрашивает:
– Не обидно?.. Не мешай же, Музыка, играй! – и начнет хлюпаться в дегте, как дитя в луже… Что-то как человек в счастье да в радости! Чего-то он не выдумает! Откуда и разум возьмется! Ничего не щадит и ни об чем не жалеет.
А там слышно, ревет медведь и танцует, а цыган выкрикивает:
– А ну, Гаврилка, как пьяные бабы валяются. Цыганка тут же, в куче, ворожит и приговаривает:
– Ты счастливый, уродливый, чернявая молодица за тобою увивается; положи же пятачок на ручку, то я не то скажу тебе.
Цыганчата выпрыгивают из своей халяндры и кричат не своим голосом, словно чёрт с них лыка дерет. Старый цыган туда же с своею одранью. Знай клянется женою и детьми, проклинает свою душу, и отца, и мать, а все затем, чтоб старую, слепую, сопатую[60] и с выбитою ногою кобылу продать вместо молодой, здоровой. Да как нашего брата отступит цыганское наваждение, так не знаешь, что и делать. Как напустят мару[61], так и сам видишь, что одран его трёх денежек не стоит, и видишь, молчишь, да среди их стоя, только хлопаешь глазами и не знаешь, как отделаться от проклятых. А они? Тот божится, а другой уже сунет тебе в руки обротя с кобылою, третий вытягивает из твоего кармана платок, в коем гаманец с деньгами увязан, а тот уже сдачу дает… И все разом таскают тебя к выставке магарыч запивать; так что, говорю я, пока схаменешься, смотришь, хотел свое ледащо продать, а проклятые цыгане всунули тебе в руку такую патыку, что и щепкой взять гадко; и отдали ее за такую цену, что можно бы при случае и средственного[62] вола купить. Да еще за мои деньги горелку покупали, сами выпили и потом, вместо благодарности, в глаза посмеялись:
– Кобыла твоя, – так говорят, – немного не довидит, да это ничего: купи ей очки и навесь к глазам, как панычи в городе носят; тогда еще послужит…
Вот такое-то все там было. Всякий же народ, что ни был там, кто только проходил мимо солдатского портрета, всяк снимет шапку, всякий скажет: либо «добры день», либо «здравствуйте, господа служба!» А служба ни чичирк, стоит себе исправно, пальцем не кивнет, глазами не поведет и усом не моргнет. И так никто, никто не отгадал, что это намалеванный. Кузьма Трофимович, сидя под навесом, смеялся крепко над всеми, кого так ловко одурил.
Как вот где взялся солдат, да уже настоящий солдат и живёхонький, вот как мы с вами. Ходит он по базару, подглядывает, подсматривает… И уже один рушничок у зазевавшейся молодички с кучи стянул и в свой карман запаковал, а у чугуевской торговки бумажный платок, так что более рубля стоит, также стянул; отрезал и венок луку с одного воза и тут же все за полцены продал – и все так хитро-мудро смастерил, что ни один хозяин не заметил. Ходя по базару, пришел туда, где продают груши; видит, что при мешках одни ребятишки, да и те, разинув рты, зевают на медведей, он положил руку на мешок, никто не видит; потянул к себе, никто не видит; хорошенько положил на плечо, никто не видит… Да не оглядываясь, поплелся куда ему надобно было. Как тут схаменулись хозяева тех груш: видят, что москаль без спросу взял полнёхонький мешок груш и, словно собственное, тащит себе, крикнули на него и пустились за ним вдогонку. Нехитрый же и москаль! Чем бы ему утекать, а он идет себе спокойно, мешок на плече несет и песенку под нос мурлычет… А тут его сзади, за мешок… Цап!
– На что ты груши взял, сякой-такой сын? – спрашивают его все в один голос. Солдат стоит, выпучив глаза, потом схаменулся и спрашивает:
– Нечто это ваши груши-та?
– Уж ничьи же больше, как наши. А он тут как прикрикнет на них:
– Ах, вы хохлы безмозглые!.. (а зараз ругаться; уж с этого тотчас видно москаля). А зачем вы, – говорит, – тогда не сказали, как я брал, что это груши ваши, а я взял.
И начал приставать к ним с пенею.
– Вы, – говорит, – по сторонам зеваете, а я вот нес, нес, да вот как уморился и амуницию[63] потер. Вот видишь, весь мундир выпачкал. Давай деньги на вычистку.
Наши хозяева стали было отгрызаться.
– Зачем же ты нес наши груши?
– Вот видишь, ты сам говоришь, что груши твои; за что ж я их даром пронес столько? Мундир потер, казенные сапоги топтал. Давай за труд и на вычистку.
Да к этому начал еще браниться жестоко. Наши видят, что москаль не только оправдывается, но еще к ним же пристает, хотели было оставить его, так ни откреститься, ни отмолятся от него, знай кричит:
– Давай за труд, я твои груши через столько места перенес!
Стали просить его:
– Цур тебе, – говорят, – батичку! Возьми себе и груши с мешком, только, пожалуйста, цур тебя, отвяжись от нас, пусти нас.
Так где же; ни приступу! Так за тем и взялся.
– Мне, – кричит, – чужого не надо, груши твои, бери их; а за то, что я перенес их, сюда подай мое, плати за труд.
Что тут было делать? Еще-таки думали как-нибудь вывернуться от него, напугать, сказали, что пойдут в волостное правление жаловаться на него, так москаль не то поет.
– Что мне волостное правление? – кричит. – Вон моя команда! (Показав на солдатский портрет) пойдем к нему.
Наши видят, что дело не шуточное, страшно; солдат солдата защитит; подумали-подумали, почесали затылки, предложили двугривенный… Москаль умилосердился, взял да потребовал за хлопоты кварту водки. Нечего было делать; посмотрели издали на портрет… Беда! От одного ружья забежал бы далеко; купили ему водки и в силу успокоили. Как же после, подойдя ближе, разглядели, да между народом расслушали и отгадали, что это солдат малеванный, так даже ударили себя руками об полы, да – фить, фить! – посвистали и, пришедши к возам, стали толковать и тут догадались, что живой москаль одурил их.
Уже гораздо не рано было утром, как вот девки собрались идти на ярмарку. Они все поджидали, чтоб немного пореже стало народа на базаре; а то в тесноте боялись, что их и не рассмотрят. О, девичья натура! Все бы им выказывать себя.
Нуте. Вот и тянется целая нитка их и, все как на подбор: одна другой чернявее, одна перед другой красивее, разряжены, так что ну! В половине дня солнышко пригрело, так оно и тепло им. Вот они и выхватились без свит, в одних байковых красных юпках (корсетах) – и как мак алеют! Ленты на головах положены по харьковской моде, вперемешку цветов и красиво, так что загляденье. Косы заплетены и переплетены в дрибушки, желтыми гвоздиками и зеленым барвинком[64] изукрашены; у рубашек рукава и в подоле все вышито, да выстрочено разными искусными узорами; у каждой на шее ниток по десяти, когда еще и не больше, намиста, даже голову гнет! Золотые дукаты, да серебренные кресты так и сияют; плахты картацкие, запаски шелковые и колесчастые, пояса каламайковые, и все как одна, в красных башмачках, да в белых и синих, суконных чулках… За делом же они вышли на ярмарку! А как же? Поглазеть, посмотреть, да чтоб и на них загляделись и, может, какой парубок подойдет да побаляндрасит с ними. Одинаков у девушек обычай, хотя в панстве, хотя в мужичестве.
Ходят они себе на ярмарке, повсюду рассматривают, кое-что промежду себя рассказывают, хохочут, как вот одна… глядь!.. и шепчет подругам:
– Девчатка-голубочки, смотрите, у нас постой, солдаты.
– Брешешь! Где ты их завидела? – спрашивают и разглядывают по сторонам. – Да вот, вот, подле дегтярной лавки стоит с ружьем караульный.
Так и есть. Крикнули все и начали между собою щебетать, смеяться, с места на место переходить, одна другую пихает, будто спотыкаются, а сами знай оглядываются, да как те павы выворачиваются, видите, затем, чтоб солдат взглянул бы на них, затрогал бы которую, вот тут бы они начали его расспрашивать: проходом ли или постоем? А тут и сказали бы ему, чтоб с товарищами приходили к ним на вечерницы[65], потому что им свои парубки пригляделись и наскучила и они же порядочного кого давно не видали.
Вот и вызвалась из них Домаха и говорит:
– А погодите-ка, я пройду мимо его; и уж не я буду, если он меня не затрогает: вот смотрите. Да примечайте, когда нужно будет, откликайтесь ко мне.
Вот и пошла, будто и не она. То сюда то туда оглядывается, то песенку замурлычит, то платочком замашет, то наклонится чулок подвязывать… вот уж и к солдату доходит, и начала будто с кем-то разговаривать:
– Где тут шпалеры[66], да шумиха продается?.. Когда бы мне кто указал… – и опять попевает в полголоса… О! да и что это за девка была! Она-то не знала, как подвернуться к кому! Она не умела чем затрогать кого! Ну, ну! Живая, проворная, смелая, шутливая; и таки довольно света повидала: два года в Харькове на мойках мыла шерсть, так ее уже нечему учить; все знала.
Когда заметили подруги, что она близ самого солдата, а он ее и не затрагивает, может быть, не видит; вот и крикнули к ней:
– А куда ты, Домаха, пошла?
Она, стоя подле солдата, помахивая платочком, кричит им во весь голос:
– Вот куплю на цветки, когда какой чёрт не помешает. – И взглянула на солдата, а он стоит; не затрагивает ее, да и полно.
«Что за недобрая мати! – думает Домаха. – Уж я и не таких видала, никто не отделывался от меня, а он не смеет, что ли?.. Ворочусь еще».
Воротилась и, проходя близехонько, не глядит на него и… уронила платок. Не из чёрта ли хитрая Домаха!.. Так что ж? Платочек лежит, а солдат и волосом не двинет. Стала наша Домаха, оглядывается и сказала громко:
– Ох, мне лихо! Потеряла платок. Когда б кто поднял, да отдал, то я уже знаю, как отблагодарила б ему.
Солдат не шевелится. Нечего делать Домахе, надобно воротиться… Вот будто и подбегает, а тут выжидает и говорит:
– Вот беда! Лежит мой платок подле самого солдата… Как взять его?.. Я боюсь, чтоб он меня не схватил или чтоб с ружья не застрелил.
Ничто солдата не расшевеливает, стоит как вкопанный… Подошла, наклоняется и не наклоняется, и берет будто и не берет… все думает, что вот подскочит солдат и поиграет с нею. Так видно, не на таковского напала. Так и быть. Наклонилась и, как будто не евши три дня, протягивает руку, а сама глаз не сводит с солдата… присматривается… да как захохочет во весь голос!..
– А что он тебе там сказал? – крикнули разом любопытные подруги, – Домахо, Домахо! Расскажи и нам.
А Домаха за хохотом и слова вымолвить не может… и сколько духу побежала от солдата…
– Что?.. Что такое?.. Что он сказал тебе?.. – обступивши подруги, спрашивают Домаху.
– Эге? Что сказал? – насилу могла выговорить Домаха. – То не живой солдат, а только его персона (подобие, портрет).
– Йо (неужели)? – крикнули девчата и подбежали рассматривать… Так и есть, намалеванный. Хохотали, хохотали они над тем портретом, выдумывали многое тут и пошли прочь по ярмарке…
Много посмеявшись такому случаю, Кузьма Трофимович подумал, что уже пора снимать своего солдата, уложить на воз и уплетать домой… как вот крик, галас, тупотня[67], хохотня, песни, сопелка[68]… он и спрятался под свой навес.
То наступало парубочество: шевчики[69], кравчики[70], сапожники, портные, кузнецы, свитники, гончари, и бурлаки[71] всякого ремесла, хозяйские работники, отцовские сынки собрались погулять на ярмарке. Еще с утра, кто продал свой товар, а кто накупил чего ему нужно было и, запив магарычи, теперь, выбрившись хорошенько, вздели на себя кто новую свиту[72], кто китайчатую[73] юпку (род камзола), кто отцовский, хотя старый, да жупан[74], подпоясавшись хватски кто каламайковым, а кто суконным поясом, на подбритые под чуб головы надели казацкие шапки из решетиловских смушков, кто с красным, зеленым, а кто с синим верхом, в юфтяных[75] сапогах с подковами, а у иного были и коневьи, да только так вымазаны, что деготь с них так и тек. Диво ли, что такая роскошь у сыновей богатых отцов? Вот они, закрутив усы, идут стеною, с боку на бок переваливаются, руками размахивают, трубки курят и, сколько есть в них голоса, даже кривятся, жмурятся, поют московскую песню «При долинушке стояла». А где идут, там люди от них так и расступаются, потому что не попадайся им на дороге никто: торговка ли с своими коробками, москаль с квасом, слепцы ли с поводателем или баба старая, девка ли молодая им навстречу, нет никому разбора, никого не уважат, всякого стеною так и давят, с ног валят, а сами ничего, будто и не замечают, не видят никого и будто не они.
Это они теперь, завидев девок, поспешают за ними, чтобы так стеною их смять; как же они разбегутся, так тут ловят их, чтоб поиграть, поженихаться. Известно, молодецкое, парубочское дело. А унять их и не думай никто.
Идя вслед за девками, проходят мимо малеванного солдата, а их путеводитель, Терешко сапожник, снял перед ним шапку и говорит:
– Здравствуйте, господа служба!
Тут как захохочут слышавшие это, как крикнут на него:
– Тю ты, дурной! Да то не живой солдат, то намалеванный. Вот оглашенный, не разберет и того.
В продолжении ярмарки многие подходили к портрету и, рассмотрев его, отгадывали, что он намалеванный, оттого так и крикнули все на Терешку.
Напек же пан Терешко раков (крепко покраснел от стыда), когда и сам разглядел и уверился, что точно солдат намалеванный и что весь базар насмехается над его простотой… Теперь, думает сердечный, не дадут мне отдыха: будут с меня смеяться и через то многое прибавят еще. Что тут делать!.. Стоит печальный и думает. А потом спохватился, захохотал и говорит:
– Будто я и не заметил, что это не живой солдат, а только портрет его. А поклонился затем, чтоб посмеяться маляру. Так ли малюют! О чтоб его мара малевала! Это и слепой разглядит, что это портрет, а не настоящий человек… Разве были тут такие дурни, что считали его за живого?.. Не знаю! Тьфу! Это чёрт знает что надряпано. Смотрите, люди добрые: разве так шьется сапог, как он намалевал? Я сапожник на все село, так я знаю, что голенище вот как выкраивается (и стал пальцем по портрету царапать); вот и в подборах брехня, да и подъем не так… да так и все не так. Цур ему! Пойдем, хлопцы, далее; намалевал же какой-то дурак…
Довольный собою, что покрыл свой стыд, Терешко с товарищами по шли своею дорогою.
Да и закрутил же нос наш Кузьма Трофимович, как будто тертого хрена понюхал! Крепко ему досадно было, что все же люди до единого, кто только был на ярмарке, все до единого не распознавали намалеванного солдата от живого, а тут чёрт знает откуда взялся сапожник, судит, рядит и охулил его искусство. «Это уже будет, – думает себе, – курам на смех. Правда, я о сапогах не очень и заботился; может быть, в них что-нибудь и не так. Я только и старался, чтоб тваря (лицо) его, и он весь, равно мундир и ружье, чтоб было как живое, а о сапогах, как о ненужной вещи, вовсе не думал; не полагал я, чтобы кто вздумал присматриваться, что нейдет к делу.
Ну, пусть будет так, как сказал сапожник: перемалюю, чтоб его утешить и чтоб в моей работе не было никакой фальши».
Достал палитру с красками, кисти, вылез из-за портрета, подмалевал, как нацарапал сапожник, спрятался опять под свой навес и говорит себе:
– Пускай подожду, пока краски подсохнут, а тогда и домой. Теперь сапожник не скажет, что сапог не так намалеван.
Как вот… Терешко с своею ватагою, не догнавши девок, воротились, чтоб перенять их, и проходят мимо солдатского портрета. Вот один из парубков, приметив поправку на нем, говорит:
– Смотри, Терешко, маляр тебя послушал: перемалевал сапог, как ты сказал.
– Эге! Еще бы то не послушал? – сказал Терешко, подвинув шапку на голове и взявшись в боки. – Я во всем силу знаю и тотчас замечу, что не к ладу.
И чтоб больше похвастать перед окружившим его и слушающим народом, да чтобы больше досадить маляру, он, посвиставши, сказал:
– Вот и этого не вытерплю, скажу; я должен также маляру заметить: сапог теперь как сапог, сделал, как я научил; так мундир ни на что не похож. Надобно, чтоб рукава – вот так…
– А-зась![76] Не знаешь! – отозвался Кузьма Трофимович из-за портрета. – Сапожник, суди о сапогах, а о портняжестве разбирать не суйся!
Как же захохочет весь базар, услышавши, какую правду сапожнику отрезал Кузьма Трофимович! Со всех сторон подняли Терешку на смех!.. Кругом осмеянный Терешко побежал оттуда что было духу и забежал не знать куда. А Кузьма Трофимович моргнул усом, уложил свой портрет, поехал к пану и по уговору денежки и горелку счистил, да и прав.
Ярмарка разошлась. Нескоро показался в люди Терешко и уже полно ему верховодить на улице, на вечерницах или в шинке; полно ему судить и рядить, о чем знает и не знает. Только лишь забудется да забаляндрасится о том, о другом, то тут кто-нибудь и скажет:
– Сапожник, суди о сапогах, а о портняжестве разбирать не суйся! – то он тотчас язык и прикусит и уже ни чичирк.
Вот и вся! Кажется, эта побрехенька была бы пригодна и для всех, берущих на себя судить о том, чего не понимают вовсе. Гм!
Маруся
Посвящается Анне Григорьевне Квитке[77]
Часто мне приходит на мысль: для чего бы человеку так сильно привязываться к чему-нибудь, не только к вещи, даже и к милым для нас людям: жене, детям, искренним приятелям и другим? Прежде всего подумаем: разве мы на сем свете вечные? И что есть у нас – скотина ли, хлеб на гумне[78], имущество в сундуках, – разве этому всему так без порчи и быть? Нет, ничто здесь не вечное; да и ты сам что? Сегодня жив, завтра что Бог даст! Ведь живучи с людьми, только и слышишь: там звонят, там плачут, и все по покойнику; там кормят нищих за упокой… Каждый божий день говорят: вот тот-то болен, тот умирает, а тот умер… Ты и не осмотришься, и не опомнишься, как остался сам себе на свете: хотя ты и с людьми, и между людей, да все уже не то! Все они тебе либо не такие приятели, каких похоронил, либо и совсем неизвестны; так оно тебе все равно, что скитаешься в дремучем лесу! Вот начни вспоминать о своих приятелях, так вся твоя песня будет на один лад: вот с тем мы хлопцем были, а он уже умер; с тем в школу вместе ходили, и тот умер; с тем молодечествовали, и тот умер – и этот и тот, и тот и этот, все померли. Когда ж это так, то и помни себе всегда, что не забудут и тебя на этом свете, возьмут, не спрашивая, хочешь ли к прежним товарищам или, может быть, еще бы погулял.
А так думая, для чего бы нам, невечным, привязываться так к временному? Для чего бы не делать так: наградил тебя Бог счастьем, что отец и мать твои живут при тебе и благодарят тебя ласковым словом за то, что ты их при старости и покоишь и уважаешь; или счастлив ты женою доброю, кроткою, попечительною хозяйкою; или детками покорными да послушными, – хвали за все это Бога и утром и вечером, а их почитай, люби, и уважай, и не жалей для них не только никаких трудов, имущества, но, когда нужда велит, душу свою за них положи, всем жертвуй, умри за них… Но все-таки помни, что и они на сем свете такие же гости, как ты и всякой человек, царь ли, пан, архиерей, солдат или пастух. Когда же милосердый наш отец кого-нибудь из нас позовет, провожай с горестию, но без скорби и ропота; перекрестись и скажи, как всякой день в молитве читаешь: «Господи, буди воля Твоя с нами, грешными!» И не вдавайся в сильную печаль, чтобы она тебе не сократила веку, потому что грех смертельный причинять себе не только смерть, но и болезнь, хотя бы и легчайшую; не сберегши тела, можешь погубить и душу на вечные веки! Больше всего помни, что ты хоронишь сегодня, а тебя схоронят завтра и все мы будем вместе у Господа милосердого, в вечной радости, и там не будет уже никакой разлуки и никакое горе, никакая беда там не приключится нам.
Еще же и так мы думаем, что как придется кому из нас по несчастию хоронить кого из своей семьи или родных, так будто это человеку бывает за его грехи и неправды прежние. Нет, не так оно! Вот послушайте, как нам священник в церкви читает, что Господь небесный нам будто отец детям. А после этого не грех нам будет и так уподобить: вот соберутся дети играть на улице, и будут между ними шаловливые, да все б то им вместо игрушек драться да ссориться; а между ними будет дитя смирненькое, тихое, покорное до того, что всяк может его обидеть. Ведь правда, конечно, что отец такого дитяти, чтобы оно не научилось чему худому от своевольных детей, жалея о нем, позовет его от игры к себе; а чтоб оно по товарищах не скучало, посадит подле себя, приголубит, приласкает, и чего оно ни поже лает, все даст ему. Конечно, прочие дети, оставшиеся на улице, не понимая, как хорошо у отца всякому дитяти, будут жалеть о нем; но нужды нет, пусть жалеют, а ему у отца очень, очень хорошо! Вот так и Небесный наш Отец поступает с нами: оберегает нас от всякой беды, и в предохранение от нее, берет нас прямо к себе, где такое добро, такое добро, что ни рассказать, ни даже представить нельзя… Да еще и так подумаем: чувствуешь ты, человече, что эту беду послал тебе Бог за грехи твои, – так тут же и рассуди: какой отец оставит детей вовсе без всякого наставления, чтобы они совсем развратились? Всякий, всякий отец старается научить детей всему доброму; а непослушных по-отцовски накажет да по-отцовски же и помилует. Недаром сказано: негодное то дитя, которого отец не наказывал! Это люди с своими детьми так поступают. А то Отец Небесный, коего милосердию нет меры и пределов! Когда он и пошлет за грехи наши какую беду, то он же и помилует! Только покоряйся ему! После сего не будем же скорбеть, что нам Бог милосердый ни пошлет терпеть и, перекрестившись, при беде скажем: «Господи! Научи меня, грешного, как исполнять волю Твою святую!» Тогда увидим, что нам будет все легко переносить и во всем будет покойно.
Та к поступал Наум Дрот.
Вот его постигла злая беда. Что же он? Ничего. Хвалил Бога и прожил век, не вдавшися в отчаяние; а грамотный не выдержал…
Вот как это было.
Наум Дрот во всем селе, где жил, был лучший парень. Отцу и матери послушен, к старшим себя почтителен, с ровными дружен, ни полслова никогда не сказал несправедливого, горелки не напивался и пьяниц не терпел, с бездельниками не знался; к церкви же, так хоть будь и не великий праздник, лишь только услышит колокол, он уже и там, свечу выменил, нищим денег подает и принимается за свое дело. Когда прослышит о ком бедном, наделит по своей силе или добрый совет даст. За его правду не оставил же его Бог милосердый. Что бы ни задумал, все ему Господь и посылал: наградил его женою доброю, трудолюбивою, хозяйкою, скромною; и чего было Наум ни пожелает, что ни задумает, Настя (так ее звали) ночи не спит, везде старается, хлопочет, промышляет, достает и всего сделает и всего достанет, чего мужу хотелося. Уважал же и он ее, сколько мог, и любил, как свою душу. Не было между ними не только драки, как водится в их быту, но даже ни малейшей ссоры. Ежедневно славили Бога за его милости.
Об одном только они тужили: не по сылал им Бог детей. Так что же? Настя как вздумает про это, так тотчас в слезы и плачет; а Наум перекрестится, прочитает «Отче наш», станет ему на сердце веселее, и пошел за своим делом: или в поле, или на гумно, к скотине, к батракам, потому что был достаточен: было волов пар пятнадцать, была и лошадь, были и батраки; было чем барщину отбывать и в дорогу фуру посылать; было и поле, доставше еся еще от деда, а то и он еще прикупил; так было ему над чем управлять.









