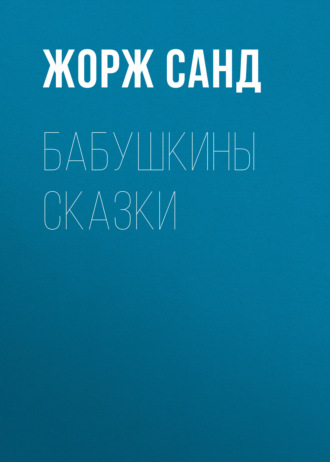 полная версия
полная версияБабушкины сказки (сборник)
– Ах, не говори обо мне! – вскричала Диана. – Я никогда не думала о замужестве, и меня никогда не занимало, что предстоит мне в будущем. Будем говорить о тебе одном. Неужели этот прекрасный городской дом, который ты так любишь, который ты так хорошо устроил и к которому ты так привык, будет продан? Нет, это невозможно! Где же ты будешь работать? И твой дом в деревне также будет продан?.. Где же ты тогда будешь жить?
Флошарде, видя, что Диана взволновалась из-за него более, чем он бы хотел, старался успокоить ее, говоря, что, может быть, добьется новой отсрочки. Ее беспокоила чрезмерная работа, которую он брал на себя. Она боялась, чтоб он не заболел. Притворясь успокоенной, чтоб доставить ему удовольствие, она, совсем убитая, возвратилась вечером домой, скрывая слезы. Она не осмелилась открыть доктору свое горе, опасаясь услышать от него порицание и осуждение своего отца. Она сыграла в шахматы со своим старым другом и удалилась в свою комнату поплакать на свободе.
Она мало спала и не видела снов. Утром, как всегда, принялась за работу, стараясь развлечься, но постоянно возвращалась к одной тяжелой мысли, что Лора уморит ее отца усиленной работой и что, если бы ее бедная мать была жива, Флошарде был бы всегда умерен и счастлив. Она впервые так оплакивала в сердце свою мать, потому что прежде, сожалея о ней, она никогда не думала таким образом; теперь она сожалела о счастии, которое мать ее могла дать ее отцу и которое она унесла с собой.
Она рисовала машинально, не думая, что делали ее руки.
Из глубины души призывая свою мать, она говорила ей: «Где ты? Видишь ли ты, что происходит? Разве не можешь ты сказать мне, что делать, чтобы спасти и утешить того, кого другая разоряет и делает несчастным?»
Вдруг она почувствовала горячее дыхание на своих волосах, и голос тихий, как утренний ветерок, прошептал над ее ухом: «Я здесь, ты нашла меня».
Диана вздрогнула и обернулась: позади ее никого не было. В комнате ничто не двигалось, кроме теней на белом еловом полу от колеблемых ветерком листьев липы. Она взглянула на бумагу: там был легко очерченный ею силуэт; она обозначила его более, дорисовала лицо, не придавая ему важности. Потом она сделала на этой голове прическу, нарисовала ленту и звезду, вспоминая о великолепной камее, виденной ею во сне, и равнодушно смотрела на свой рисунок, когда Жоффрета пришла прибрать в комнате.
– Ну, дитя мое, – сказала добрая женщина, подходя к ней, – довольны вы сегодня вашей работой?
– Не более, чем всегда, моя милая Жоффрета. Я даже хорошенько не знаю, что нарисовала… Но что с тобой? ты бледна, на глазах слезы?
– Ах! Господи Боже! – вскричала Жоффрета. – Возможно ли? Неужели это вы рисовали? Стало быть, вы смотрели на портрет? Вы срисовали его?
– Какой портрет? Я ничего не срисовывала.
– Тогда… тогда… это призрак, чудо! Доктор, подите, посмотрите, подите, подите, посмотрите! Что вы на это скажете?
– Что? Что там такое? – сказал доктор, искавший Диану, чтобы завтракать. – Почему Жоффрета кричит о чуде?
И, взглянув на рисунок Дианы, прибавил: «Она срисовала медальон! Но это очень хорошо, моя дочь! Знаешь ли ты, что это очень хорошо! Это удивительно! Поразительное сходство! Бедная молодая женщина! Мне кажется, что я вижу ее. Вперед, дочь моя! Мужайся! Ты будешь делать лучшие портреты, чем твой отец: этот прекрасен, он как живой».
Диана с изумлением посмотрела на свой рисунок и нашла в нем верное изображение камеи своего сна, образ которой запечатлелся в памяти ее; но это, как и то сходство, которое находили Жоффрета и доктор, было без сомнения плодом фантазии. Она не хотела говорить им, что никогда не открывала медальона: она боялась, чтоб они не открыли его, а она еще не считала себя достойной этой награды.
За завтраком она, однако, спросила у своего доброго друга, уверен ли он, что портрет ее матери действительно похож.
– Как же бы иначе я узнал его? Ты хорошо знаешь, что я не говорю для угождения тебе. Жоффрета, – прибавил он, – принеси этот рисунок. Я хочу его видеть.
Жоффрета исполнила приказание, и доктор пристально вглядывался в рисунок, прихлебывая свой кофе. Он не говорил более ничего, совершенно углубившись в созерцание, а Диана с тоской спрашивала себя: «Что, если первое впечатление не возвратится к нему!» В эту минуту доложили о господине Флошарде, который иногда приходил к доктору пить кофе.
– Что это вы рассматриваете? – спросил он Ферона, поцеловав дочь.
– Посмотрите-ка, – отвечал доктор.
Флошарде нагнулся над рисунком и побледнел.
– Это она, – сказал он в волнении. – Да, это милое и доброе создание, о котором, хотя я этого и никому не высказываю, но думаю постоянно и теперь более, чем когда-либо. А кто делал этот портрет, доктор? Это копия с медальона, что я дал вам для Дианы; только это бесконечно более прочувствовано и лучше исполнено. Черты здесь более благородны и более верны. Это замечательная вещь, и у меня нет ни одного ученика, способного сделать так. Скажите же, скажите, кто это делал?
– Это… это… – сказал с лукавой запинкой доктор, – маленький воспитанник… мой воспитанник, не во гнев вам будет сказано!
Флошарде взглянул на дочь, которая отвернулась к окну, чтобы скрыть свое волнение, потом обернулся к доктору с вопросом на лице. Он понял и с величайшим изумлением перевел глаза на рисунок, отыскивая, нельзя ли к чему придраться, и ничего не находя, потому что был в том состоянии духа, когда люди менее уверены в себе и более склонны признавать, что даже в самых очевидных вещах можно ошибаться.
Диана не смела обернуться, она боялась думать, она наклонилась над окном, чтобы скрыть свое смущение, не обращая внимания на солнце, которое ударяло ей в голову и резало своими яркими лучами ей глаза. В этом забытьи она увидела высокую белую фигуру чудной красоты, зеленоватое платье которой блестело, как изумрудная пыль. То была муза ее грез, то была добрая фея, дама в покрывале; но на лице ее более не было покрывала, оно развевалось около нее, как золотое сияние, и ее прекрасное лицо, лицо камеи, виденной ею во сне, было совершенно такое, какое Диана нарисовала и которое Флошарде рассматривал на бумаге с удивлением, смешанным с некоторым ужасом.
Диана протянула руки к этому лучезарному образу, который улыбался ей и радостно говорил, исчезая: «Ты опять увидишь меня».
Диана, пораженная и восхищенная, упала на стул в углублении окна, у нее вырвался крик радости. Флошарде и доктор бросились к ней, думая, что ей дурно, но она успокоила их и, не говоря им про свое видение, спросила у отца, действительно ли он доволен ее работой.
– Я не только доволен, – отвечал он, – я восхищен и растроган. Я порадую тебя, дитя мое: в тебе есть священный огонь и притом знание живописи не по летам. Продолжай, не утомляя себя, работай, надейся, но чаще сомневайся в себе: это очень полезно, а я, я не сомневаюсь более, я совершенно счастлив!
Они обнялись, рыдая. Потом Флошарде попросил свою дочь оставить их с доктором наедине, поговорить о делах. Она удалилась в свою комнату, где была одна, потому что Жоффрета завтракала. Диана подбежала к своему бюро, вынула сафьянный ящик, который она перевязала черной атласной лентой, чтобы избежать искушения открыть его слишком рано. Она, наконец, открыла его, стала на колени на подушку и поцеловала медальон, прежде чем взглянуть на него, потом закрыла глаза, чтобы представить себе идеальный образ, который обещал ей снова явиться. Она увидела его совершенно ясно и, уверенная в позволении его, наконец взглянула на портрет. Это было то же лицо, которое она нарисовала, это была муза, камея, мечта, и все-таки это была ее мать. Это была действительность, отысканная поэзией, чувством и воображением.
Диана не спрашивала себя, каким чудом это сделалось. Она приняла дело так, как оно было, и не старалась потом объяснить его рассудком. Я думаю, что она была совершенно права. В молодости лучше верить в божественных друзей, чем слишком верить в самого себя.
VIIIПеременаЯ не буду рассказывать день за день два следующих года, прожитых Дианой. Она продолжала работать скромно и мужественно, часто с почтительной нежностью прося совета у своего отца. Но он не всегда был в состоянии понимать то, чего сам не мог сделать.
Диана безотчетно избрала путь, совершенно противоположный его пути. Ее родина обладала многими произведениями древней скульптуры, которыми начинали дорожить, потому что французский вкус получил новое направление. Гравюра распространяла и популяризировала драгоценные находки Геркуланума и Помпеи: картины, вазы, статуи, утварь, всевозможные предметы. Изящная простота, как тогда говорили, стремилась заменить пестроту китайщины, манерность и округленность рококо. Изучали лучше Италию, путешествовали больше и, если еще дорожили прекрасным колоритом и игривой фантазией Ватто, то не менее пленялись этрусскими вазами и греческими медальонами. Общество не возвращалось более ко времени Валуа, которое известно теперь под именем эпохи Возрождения; предпринимали новое возрождение, менее оригинальное, но все-таки прекрасное. Тогда делалась мебель в так называемом древнем стиле, который известен нам под именем стиля Людовика XVI. Она была прекрасна и изящна, хотя и неверна древности. Женщины также стали уменьшать свои монументальные прически и небрежно взбивали вокруг лба свои все еще напудренные волосы. Мужчины, завивая, связывали простой лентой свои длинные волосы, которые недавно еще носили в кошельке, а некоторые поднимали их в косы черепаховой гребенкой.
Флошарде в своей мастерской был причесан именно таким образом и снимал портреты с людей более просто одетых, нежели те, которые доставили ему столько славы.
Никто не удивлялся тому, что дочь Флошарде, на которую начинали обращать внимание, была одета еще проще, чем то предписывала мода; никто не спрашивал себя, каким образом это отражение прошедшего, этот только что развивающийся вкус успел уже так быстро, так решительно сродниться с ней, с ее стремлениями и талантом. Только Флошарде сделался печальным и получил отвращение к своей манере писать. Это обновление формы искусства застало его врасплох, его, который всегда старался выставить на первый план наряд. Он замечал постепенный упадок известности, которой он пользовался. Он попробовал увеличить свою цену в то время, когда общество менее всего было расположено платить дорого, и, так как он унизился до того, что стал торговаться, то скоро увидел уменьшение числа заказчиков. Талант его дочери становился известным, и ему не боялись говорить, что дочь должна ему помогать и, где нужно, заменять его. Конечно, бедный человек не завидовал таланту своей милой Дианы, но он ни за что не соглашался заставить ее прервать ее независимые и плодотворные занятия, чтобы предаться ремеслу для приобретения денег на прихоти госпожи Лоры.
В продолжение этих двух лет положение художника сделалось очень затруднительно. Он хотел все спасти усиленной работой, он убивал себя трудом, но все-таки не достигал того, чего хотел. Работы становилось все меньше и меньше. Неспособная соблюдать экономию в расходах, госпожа Лора собрала свое маленькое имущество и удалилась в Ним к своим родителям, где проводила три четверти года, лишь ненадолго являясь к мужу, а в остальное время тратила на новые платья то немногое, что у нее было, вместо того, чтобы употребить его на облегчение хозяйственных затруднений. Диана, видя отца покинутым, печальным и одиноким, опять переселилась к нему и делила свое время между ним и доктором. Прежде всего она отпустила всех слуг. Жоффрета сделалась кухаркой, и Диана помогала ей, чтобы ее отец, привыкший жить хорошо, не знал никаких лишений. Она привела в порядок дом и дела. Долго отклоняла она опасность, угрожавшую состоянию Флошарде, аккуратно выплачивая проценты. Но наконец настал день, когда кредиторы, устав ждать, наложили запрещение на дома, сады, маленькую ферму, предметы искусства и движимость отца ее. Это было жестоким ударом для Флошарде, который не мог более скрывать своего несчастья от дочери и друзей. Он вынужден был все покинуть и искать в другом месте не новых, постоянных заказчиков, – на это нужны были годы, – но хоть какой-нибудь работы. Он уже получил заказ для церквей в Арле. Там он писал святых дев и ангелов и тотчас же стал мечтать о возможности приняться за портреты. В то же время он рассчитывал прослыть учителем прекрасного, взявшись за то, что он называл высокой живописью. Но способ изображения святых дев и ангелов уже переменился. Долгое время любили улыбающихся полненьких мадонн времен Людовика XV. Теперь предпочитали мадонн более серьезных и менее похожих на хорошеньких деревенских кормилиц. И добрые матушки, которых Флошарде тщетно окружал светлым сиянием, усеянным превосходно отделанными розами, возбуждали немало шуток. Эти насмешки, которые из уважения к его прежней известности не доходили до него, достигли, однако, ушей Дианы. Она поняла, что эта новая попытка не поднимет ее отца, и, войдя однажды вечером к доктору, когда он удалился в свою комнату, она сказала ему:
– Знаете ли вы, мой добрый друг, что мой отец погиб?
– Да, я это знаю, – отвечал доктор, – совершенно погиб! Ему нужно двести тысяч франков, и никто не хочет ссудить их ему.
– Но если кто-нибудь поручится?..
– Кто сделает эту глупость? Это все равно, что бросить двести тысяч в воду: твой отец не расплатится никогда.
– Вы сомневаетесь в нем?
– Не в нем, но лишь только он приобретет видимое довольство, его жена возвратится и разорит его еще больше.
– Купите, по крайней мере, один из его домов, чтобы он мог удовлетворить кредиторов. Вы позволите мне жить в нем с отцом, а когда его не станет, вы возьмете все обратно. С меня довольно таланта, чтобы прожить, мне надо так мало, мой заработок самого маленького размера удовлетворит меня.
– Ты забываешь, что твоему отцу нет еще и пятидесяти лет, а мне уже семьдесят пять. Если я куплю его имение, я уже не буду получать процентов с моего капитала и умру в нужде. Разве ты этого хочешь?
– Нет, я буду платить за наем. Я буду работать, моя добрая фея сделает для меня еще одно чудо: я приобрету деньги. Попробуйте, мой друг, отклонить продажу нашего имущества, поручившись за уплату, и вы увидите, что не пройдет двух лет…
– Это не так верно, – сказал доктор. – Есть другой способ решить дело, но он очень тяжел. Я могу купить для тебя городской дом твоего отца и все предметы искусства из деревенского дома. Я могу предложить ему сохранить свое жилище, свои привычки и благосостояние, так как вы можете отдавать внаем часть этого большого дома, и у вас будет небольшой доход, достаточный для удовлетворения ваших потребностей. Но вот что выйдет из этого: госпожа Лора вернется к мужу и выгонит тебя своими сплетнями. Ты не выдержишь этой борьбы, которой ты никогда не хотела бы начинать, и возвратишься ко мне, чему, конечно, я буду очень рад. Но твой отец подчинится ее игу, начнутся долги, потому что им не хватит маленького дохода с квартир. Тогда ты откажешься от собственности, чтобы спасти честь своего имени, твой отец будет так же разорен, как сегодня, а ты, ты лишишься всего, потому что приданое, которое я хочу тебе дать, уйдет на оборки к юбкам твоей мачехи. Ты знаешь, что я хочу разделить мое имение между тобой и моим племянником. А долги твоего отца составляют около половины моего состояния. Итак, для спасения твоего отца я должен пожертвовать твоим будущим – это так же верно, как дважды два – четыре.
– Пожертвуйте им! Нужно пожертвовать им! – отвечала Диана властным тоном, как одна из тех гордых богинь, на которых она походила стройным профилем и прекрасным станом. – Вы мне никогда не говорили, что хотите сделать это для меня. Теперь, когда я это знаю, я покойна: мой отец спасен! Вы не можете посоветовать мне покинуть его в отчаянии и несчастии ради моего будущего.
– Это прекрасно, – сказал доктор, – но мое настоящее, мое? Мои доходы, то есть мое благосостояние? Что ж, я должен уменьшить их наполовину завтра же?
– Если бы вы выдали меня замуж, не сделали ли бы вы то же самое?
– Я думал, что ты останешься со мной, что мы будем жить семейством. Таким образом издержки не были бы заметны, выкупаясь семейным счастьем. Чем терпеть лишения ради того, чтобы дать возможность жить широко Лоре…
– Без сомнения, – возразила Диана, – это не радость; но вот что я думаю: я решилась заменить ее влияние на отца своим и чувствую, что достигну цели. Я буду отдавать вам проценты с капитала, который вы мне доверите. Верьте мне, если я люблю отца, я люблю также и вас и не хочу, чтобы вы хоть сколько-нибудь страдали от благодеяния, оказываемого мне.
– Хорошо, – сказал доктор, обнимая ее, – я согласен! Иди спать и спи спокойно. Будь что будет! Твой отец будет спасен до следующего раза, как ты хочешь того.
Действительно, на следующий день городской и деревенский дома Флошарде были куплены с аукциона доктором Фероном. Но, сверх ожидания Дианы, он закрепил за ней то и другое; он знал, что делал, и не хотел предоставить ей на выбор: или бороться с отцом, или быть разоренной им. Он знал слабость Флошарде к жене и не хотел допустить гибельного сближения между ними. Он ничего не открыл Флошарде.
– Друг мой, – сказал он ему, – я сожалею, что не могу спасти вас от этой катастрофы, вы лишились всего имущества, но, пока я имею доходы, живите спокойно и впредь не делайте долгов. Вы будете жить у вашей дочери, которой я отдаю внаем ваш дом, ставший теперь моим. Она получит ту половину дома, которая вам служила только для балов, спектаклей, а ваши заказчики будут поддерживать ваши и ее доходы, потому что она будет возле вас и, совершенствуясь, возвратит славу вашей мастерской. В ней нет безрассудного тщеславия. Я знаю, что общественное мнение хорошо расположено к ней и, если она захочет, у нее будут заказы и успех.
Флошарде поблагодарил доктора, однако заметил, что, если его жена захочет жить с ним, он должен будет избрать другое жилище.
– Если это будет, – возразил Ферон, – то пусть она примет то, что предложит вам обоим ваша дочь, как главная жилица моего дома.
– Моя жена никогда не согласится на это. Она слишком горда, она будет жить отдельно от меня, ссылаясь на то, что я не могу предложить ей жилище, так как она не хочет быть ничем обязанной моей дочери.
– Это будет очень дурной предлог, так как ничто не помешает ей платить за наем квартиры у своей падчерицы. Кроме того, это будет для нее удобный случай участвовать в общих издержках и исполнить обязанность, которой она слишком пренебрегала.
Флошарде понял, что доктор прав. И в самом деле, его жена причинила ему столько несчастий, что он не мог очень сожалеть о ней. Его легкомысленный характер не позволял ему видеть, какое унизительное положение ему предлагали. Нежный, честный, доверчивый по природе, он надеялся возвратить себе своих заказчиков и независимость, как только долги его будут уплачены.
IXВозвращение в ПиктордюВ самом деле, с Флошарде совершился переворот. В провинции не любят сомнительных положений, и, сверх того, ввиду его возможного банкротства весь свет взволновался, потому что он считал себя более или менее скомпрометированным. Когда все было уплачено, честного художника, совершенно разоренного, увидали весело ожидающим перед своим полотном прихода благосклонных фигур своих сограждан, – эти фигуры являлись с улыбкой и после тысячи знаков уважения и участия, более или менее деликатно выраженных, тотчас же предлагали работу. Подле него Диана за своим мольбертом ждала спокойно и бодро, чтобы к ней привели детей всех этих господ и дам. Она выбрала эту специальность, чтоб не вмешиваться в дела своего отца. К ней приводили все молодое поколение города и окрестных замков, надежду семейств, гордость матерей, толпу красивых малюток, потому что не должно забывать, что Арль – страна красоты.
Диана выказывала много веры в свои силы, но то была роль, которую бедное дитя разыгрывало по необходимости. В сущности, она считала себя слишком мало знающей, чтобы работать хорошо, и все еще, несмотря на свой возраст, просила чудесной поддержки своей матери, прекрасной музы, потому что эти два образа слились в один в мыслях ее.
В первый раз, когда она решилась приняться за работу, она отыскала в своем бюро старую святыню, которую она уже давно не видала, – маленькую головку ребенка Бахуса, найденную в Пиктордю; Диана поняла ее теперь и нашла еще более прекрасной, чем она казалась ей прежде. «Милый маленький божок, – сказала она, – ты пробудил меня к жизни в искусстве. Вдохнови меня и теперь! Открой мне ту тайну истины, которую вложил в тебя великий неведомый артист. Я соглашаюсь остаться такой же неизвестною, как он, если создам несколько образцов такой красоты, как ты».
Диана еще не позволяла себе писать красками, она начала с пастели, которая была в большой моде в то время. Первые рисунки ее были до того замечательны, до того прекрасны, что о ней заговорили в двадцати местах. Заказчики в одно и то же время возвращались к ее отцу и приходили к ней. Дворянство и купечество любили встречаться в этой скромной мастерской, где отец и дочь работали вместе; один – умно и весело болтая после многих лет тоски и забот, которые теперь прошли; другая – молчаливая и скромная, не подозревая о своей красоте и не возбуждая зависти. Вспоминая легкомысленные черты, безумные наряды и резкий тон Лоры, никто не жалел, что Флошарде избавились от нее. В другой раз к ним приходили просто поболтать: это вошло в моду. Приходить туда беседовать сделалось признаком хорошего тона.
В конце года Флошарде и его дочь, живя очень скромно, но без больших лишений, имели возможность заплатить доктору за наем квартиры. Получив деньги, он отложил их на имя Дианы. Он сделал ее, по завещанию, наследницей всех своих доходов. Но он остерегался высказывать это, сколько для того, чтобы не задеть достоинства Флошарде, столько же и для того, чтобы Диана сохранила решимость держать Лору в отдалении.
Несмотря на эту скромную обстановку, госпожа Лора возвратилась, когда узнала, что долги уплачены и дела пошли хорошо. Ей не особенно нравилось жить у родителей, которые были небогаты и бережливы. Там она почти не бывала в свете и ее роскошные наряды мало служили ей. Она возвратилась, и Диана принудила себя принять ее ласково. Сначала она держалась в стороне, но скоро захотела бывать в обществе, посещавшем мастерскую ее мужа. Ее присутствие обдавало холодом, ее болтовня была некстати; находили даже безвкусными ее роскошные наряды и драгоценности, которые она должна была бы поспешить продать, чтобы освободиться от общих долгов. Поговаривали, что она держит себя слишком свободно и принимает с Дианой пренебрежительный тон, вовсе не идущий к ней; и ей дали почувствовать, что ее присутствие не было приятно. Раздосадованная, госпожа Лора удалилась из мастерской и старалась завязать знакомство вне ее. О, напрасно: это была закатившаяся звезда, ее красота увядала с ее успехами. В обществе господствовали более строгие идеи. Ее приняли холодно, и только несколько визитов, сделанных наудачу, были ей возвращены.
Тогда она, чтобы приобрести себе вновь уважение, стала лицемерить и, сбросив свои цветные платья, как вдова Мальборо, приняла манеры и тон ханжи. Перемена эта не могла быть искренней, и она дурно сделала, приняв на себя эту роль. Прежде она была только легкомысленной и эгоисткой, теперь она сделалась лживой, завистливой и злой. Она бранила весь свет, при случае клеветала, все поносила и смущала семью своими обвинениями, своими жалобами, своей щепетильностью и колкостью.
Диана относилась к ней с неизменной кротостью и, видя, что ее отец все еще привязан к этой легкомысленной женщине, она делала возможное и невозможное, чтобы приучить ее к бережливой жизни. Она противилась только одному – необузданному желанию Лоры поставить дом на прежнюю ногу. Рассчитывая на деньги, зарабатываемые ее мужем, госпожа Лора хотела прогнать жильцов и по-прежнему принимать у себя гостей. Диана не уступила, и мачеха с этих пор стала поступать с ней как с врагом, называла тиранкой и глупой всякому, кто только желал слушать эту клевету. Диана сильно страдала от этого преследования и почти решилась возвратиться в дом доктора, чтобы работать спокойно, но она прогоняла эту мысль, боясь, что отец будет без нее несчастлив.
Однажды ее посетила молодая дама, которую она тотчас же узнала, так как была памятлива на лица. Это была виконтесса Бланш де Пиктордю, вышедшая незадолго перед тем замуж за одного из своих кузенов. Она была все такая же красивая, как и прежде, такая же бедная и недовольная своей судьбой и такая же гордая своим именем, которое она имела удовольствие не переменить. Она представила Диане своего молодого супруга. Это был простой малый с обыкновенным и глуповатым лицом, но он был также Пиктордю, отпрыск старшей ветви дома, а Бланш никого другого не считала достойным себя.









