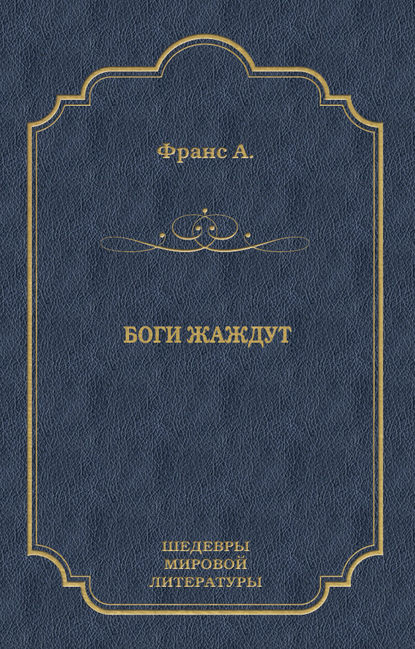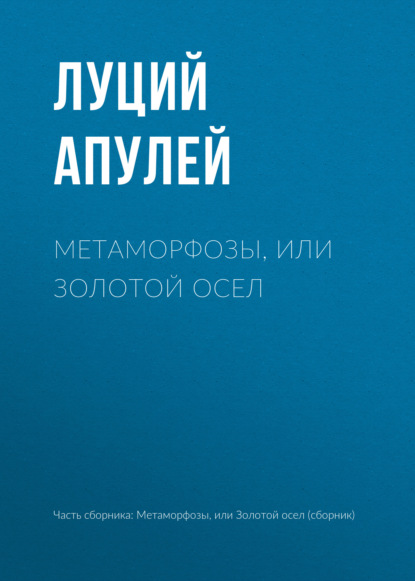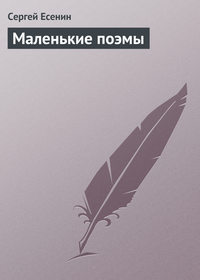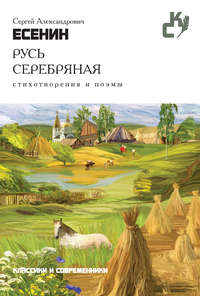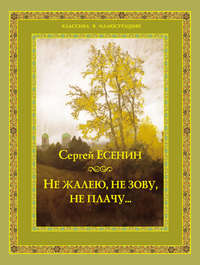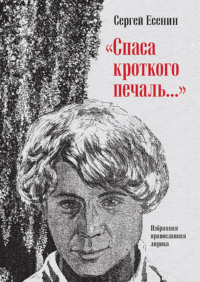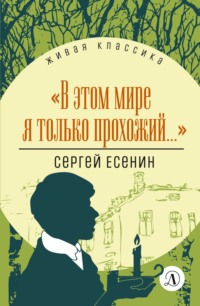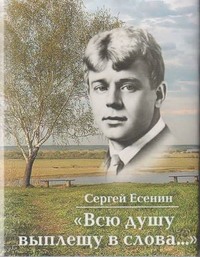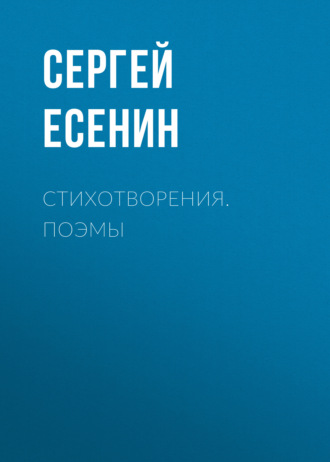 полная версия
полная версияСтихотворения. Поэмы
С. 199. Сахаров А. М. – товарищ Есенина, издательский работник.
Русь уходящая. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 722, 6 ноября.
На Кавказе. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 681, 19 сентября.
На обороте чернового автографа (РГБ) имеется написанное Есениным окончание какой-то его заметки: «…делают смычку рабочих и крестьян; то дайте нам смычку поэтов всех народностей. Мы будем об этом писать и говорить еще не раз. Вот поэтому-то и предстоящий сезон в литературе обещает быть шумным.
Сергей Есенин.
Тифлис 13. IХ—24».
С. 205. И Грибоедов здесь зарыт… – Могила Грибоедова находится на горе Мтацминда над Тбилиси.
С. 206…Поет о пробках в Моссельпроме. – Намек на работу Маяковского в эти годы над торговой рекламой.
Клюев – см. примеч. к стих. «О Русь, взмахни крылами…».
Письмо к женщине. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 733, 21 ноября.
Письмо от матери. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 747, 7 декабря.
С. 211. Есенин Александр Никитич (1873–1931) – отец поэта.
Ответ. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 747, 7 декабря.
Стансы. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, № 713, 26 октября.
С. 216. Чагин Петр Иванович (1898–1967) – журналист, издательский работник; в годы знакомства с Есениным – редактор газеты «Бакинский рабочий».
Тигулевка – «холодная», арестантское помещение.
С. 217. Демьян – Демьян Бедный (Е. А. Придворов, 1883–1945).
Письмо деду. – Газ. «Бакинский рабочий», 1924, № 297, 29 декабря.
Стихотворение обращено к деду Есенина Ф. А. Титову (ум. в 1927 г.). Е. А. Есенина рассказывает: «Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери). Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям. Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды… По отношению к детям у дедушки всегда была большая доброта и нежность.
Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним…
Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц… Пять лет Сергей жил у дедушки Федора». (Воспоминания. С. 25–27.)
С. 219. «Достойно есть», «Отче», «Символ веры» – православные молитвы.
С. 221. «Аллилуйя» («Хвалите Господа» – греч.) – возглас в христианском богослужении.
Метель. – Газ. «Заря Востока». Тифлис, 1925, № 770, 4 января.
В автографе (РГБ) стихотворения «Метель» и «Весна» объединены общим заглавием «Над “Капиталом”».
Мой пут ь. – Журн. «Город и деревня». М., 1925, № 3–4 и 5, 5 и 20 марта.
С. 228. Лориган – марка французских духов.
Песнь о Евпатии Коловрате. – Газ. «Голос трудового крестьянства». М., 1918, № 156, 23 июня.
О подвиге Евпатия Коловрата рассказывается в известном памятнике древнерусской литературы «Повесть о разорении Рязани Батыем». Этот эпизод в повести восходит не к летописям или каким-либо другим письменным источникам, а к народным преданиям и историческим песням. В свою очередь, это дает основание предположить, что Есенин пользовался в работе над своим произведением не только древнерусской повестью, а и народными преданиями, которые он мог слышать в годы юности в родном рязанском краю, когда собирал и записывал народные песни, сказки и частушки.
С. 230. Зарайская сторонушка. – Город Зарайск расположен между Рязанью и Коломной.
Допоть – татарское нашествие.
С. 231. Пешнёвые угорины – видимо, раскаленные ломы.
Лонешний – прошлогодний.
Смолот – смолотое зерно.
Журушка – ласкательное обращение к молодицам, от «жура» – журавель.
С. 233. Кумашницы – сарафаны.
Не рязанцы ль встали мертвые // На побоище кроволитное? —
Эти строки непосредственно перекликаются с эпизодом из «Повести о разорении Рязани Батыем», рассказывающим, как Евпатий Коловрат, вернувшись из Чернигова «во град Резань и виде град разорен, государи побиты, и множество народа лежаща: ови побьены и посечены, а ины позжены, ины в реце истоплены. Еупатий… собра мало дружины: тысящу семсот человек, которых Бог соблюде быша вне града…
И внезапу нападоша на станы Батыевы. И начаша сечи без милости…
Татарове мняша, яко мертви восташа». (Изборник. М., 1969. С. 350.)
ПоэмыПугачевПугачев. М., 1922.
Непосредственно к работе над «Пугачевым» Есенин приступил, как это явствует из дат на рукописи, в феврале-марте 1921 г. Однако собирать материалы он начал значительно раньше. Поэт так рассказывал И. Н. Розанову о своем замысле и своем отношении к «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» Пушкина: «Я несколько лет… изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был не прав. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести, и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева». (Воспоминания. С. 296–297.) Работа над «Пугачевым» совпала с поездкой Есенина в Среднюю Азию, во время котоpой он побывал и в пугачевских краях, в частности в Самаре и Оренбурге. Закончена поэма была в августе 1921 г.
Писал свою поэму Есенин с расчетом на постановку в театре. Летом 1921 г. состоялась читка «Пугачева» в театре Вс. Мейерхольда.
И. Старцев вспоминает: «В этот приезд я впервые слышал декламацию Eсенина. Мейерхольд у себя в театре устроил читку «Заговора дураков»
Мариенгофа и «Пугачева» Есенина. Мариенгоф читал первым. После его монотонного и однообразного чтения от есенинской декламации (читал первую половину «Пугачева») кидало в дрожь. Местами он заражал чтением и выразительностью своих жестов. Я в первый раз в жизни слышал такое мастерское чтение». (Воспоминания. С. 244.)
Постановка «Пугачева» в театре Вс. Мейерхольда не осуществилась.
Есенин многократно выступал с публичным чтением отрывков из «Пугачева». Особенно часто он читал монолог Хлопуши. Среди немногих фонографических записей голоса Есенина сохранилась запись именно этого монолога. Рассказ о чтении Есениным этого монолога содержится в воспоминаниях М. Горького:
«Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!Что ты? Смерть?..Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:
Я хочу видеть этого человека!И великолепно был передан страх:
Где он? Где? Неужель его нет?Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то нeнавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.
Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли! —громко и гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли!И, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли!Кто сказал вам, что мы уничтожены?Неописуемо хорошо спросил он:
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?И после коротенькой паузы вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои…Хор-рошие…Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – я думаю – и не нуждался в них». (Воспоминания. С. 336–337.)
Анна СнегинаЖурн. «Город и деревня». М., 1925, № 5, 20 марта; № 8, 1 мая (отрывки); полностью – газ. «Бакинский рабочий», 1925, № 95 и 96, 1 и 3 мая.
В поэме отразились впечатления от поездок в родное село Константиново в летние месяцы 1917–1918 гг. Старшая сестра поэта,
Е. А. Есенина, вспоминает:
«1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.
– Долой буржуев! Долой помещиков! – неслось со всех сторон.
Каждую неделю мужики собираются на сход.
Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.
Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».
В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех, – приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками». (Воспоминания. С. 43–44.)
В пейзаже, в лирических сценах поэмы тоже отразились константиновские впечатления. Младшая сестра поэта, А. А. Есенина, пишет:
«За церковью, у склона горы, на которой было старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживавший чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной, имение которой вплотную подходило к церкви и также тянулось по линии села.
Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа…», а слова в поэме «Анна Снегина»:
Приехали.Дом с мезониномНемного присел на фасад.Волнующе пахнет жасминомПлетневый его палисад,—относятся к имению Кашиной». (Воспоминания. С. 51–52.)
В 1925 г. Есенин неоднократно читал «Анну Снегину». Присутствовавший на одном из таких чтений Д. А. Фурманов вспоминал: «Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри». (Фурманов Д. Собр. соч. Т. 4. М., 1961. С. 374–375.)
С. 266. Воронский А. К. (1884–1943) – литературный критик, в те годы редактор журналов «Красная новь» и «Прожектор», в которых часто печатался Есенин.
Черный человекЖурн. «Новый мир». М., 1926, № 1, январь.
Замысел этой поэмы возник у Есенина еще во время его зарубежной поездки 1922–1923 гг. Как вспоминают многие современники, поэт читал им «Черного человека» осенью 1923 г., вскоре после своего возвращения на родину.
С. А. Толстая-Есенина сообщает: «В ноябре 1925 года редакция журнала “Новый мир” обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. Новых произведений не было, и Есенин решил напечатать “Черного человека”. Он работал над поэмой в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Рукопись испещрена многочисленными поправками…
Лица, слышавшие поэму в его чтении, находили, что записанный текст короче и менее трагичен, чем тот, который Есенин читал раньше. Говоря об этой вещи, он не раз упоминал о влиянии на нее пушкинского “Моцарта и Сальери”». (Комментарий – ГЛМ.)