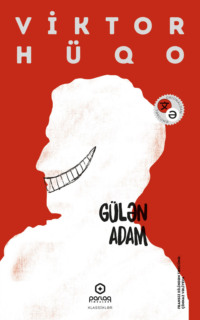полная версия
полная версияДевяносто третий год
Книга седьмая. Феодализм и революция
I. Предок
На полу каморки, возле четырехугольного окошечка, стоял фонарь. Возле него помещался кувшин с водой и лежали ломоть черного хлеба и связка соломы. Так как каморка была высечена в скале, то узник, который вздумал бы поджечь солому, даром потратил бы свой труд: темница ни в каком случае не загорелась бы и разве только что он сам бы задохнулся.
В ту минуту, когда дверь открылась, маркиз расхаживал по своей каморке; так мечется в клетке заключенный в ней дикий зверь. Услышав скрип отворяющейся и снова затворяющейся двери, он поднял голову, и фонарь, стоявший на полу как раз между ними, осветил лица обоих этих людей. Они взглянули друг на друга, и на мгновение замерли. Наконец, маркиз разразился хохотом и воскликнул:
– Здравствуйте, господин виконт. Давненько я уже не имел счастья вас видеть. Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли меня навестить. Благодарю вас. Я буду очень рад немного побеседовать с вами; я уже начал было скучать. Напрасно ваши друзья теряют столько времени. К чему все эти удостоверения личности, все эти военно-полевые суды, вся эта канитель! Я бы стал действовать живее. Потрудитесь подойти поближе – здесь я хозяин и приглашаю вас. Ну, что вы скажете о том, что кругом нас делается? Курьезно, не правда ли? Жили-были когда-то король и королева; король – это был король; королева – это была Франция. И вот королю отрубили голову, а королеву насильно выдали замуж за Робеспьера, и от этого брака родилась дочь, которую назвали «Гильотина» и с которой, по-видимому, мне предстоит познакомиться завтра утром. Очень буду этому рад, равно как и тому, что имею теперь счастье видеть вас у себя. Вы ради этого и пожаловали ко мне? Быть может, вас повысили в чине и назначили палачом? А если это просто дружеский визит, то я как нельзя более им тронут. Вы, господин виконт, быть может, уже забыли, что такое дворянин? Ну, так вот вам один образец – это я. Всмотритесь в него поближе! Это любопытно. Он верит в Бога, верит в традиции, верит в семейство, верит в своих предков, верит в пример своего отца, в верность, в честность, в преданность своему монарху, в уважение к закону, в добродетель, в справедливость, – и он с удовольствием велел бы расстрелять вас. Потрудитесь присесть, – правда, на пол, так как в этой гостиной нет ни одного кресла; но тот, кто живет среди грязи, может посидеть и на земле. Я говорю это не для того, чтобы оскорбить вас, а просто потому, что мы называем грязью то, что вы называете народом. Ведь не станете же вы требовать, чтобы я закричал: «свобода, равенство, братство», – не правда ли? Это, вот видите ли, одна из комнат моего старинного замка. Когда-то господа запирали сюда мужиков; теперь мужики запирают сюда господ. И эти-то нелепости называются революцией. По-видимому, мне собираются перерезать горло через тридцать шесть часов. Я в этом не вижу никакого неудобства. Кстати, если бы вы были человек вежливый, вы бы велели прислать мне сюда мою табакерку, она там, наверху, в зеркальной комнате, в которой вы играли, когда были ребенком, а я брал вас к себе на колени и давал вам прыгать и шалить. А теперь я вам вот что скажу, милостивый государь: ваше имя – Говэн, и странным образом в ваших жилах течет благородная кровь, та же кровь, что и в моих – ей богу! – а между тем эта кровь, делающая из меня порядочного человека, сделала из вас негодяя. Вот в чем странность! Вы возразите мне, что в этом не ваша вина; да, но и не моя. Дело в том, что можно быть бессознательным бездельником. Это часто зависит от воздуха, которым человек дышит. В такие времена, как наши, человек не всегда может отвечать за все свои действия; революция действует за всех, и все ваши великие преступники, в сущности, люди совсем невинные. Да вот, начать хоть бы с вас! Позвольте мне полюбоваться вами! Да, я любуюсь таким юношей, как вы, который, происходя из почтенного семейства, занимая видное положение в обществе, имея возможность пролить свою благородную кровь за благородное дело, будучи виконтом Говэном, родом из вот этой самой башни Тур-Говэн, бретонским принцем, имея возможность быть герцогом по праву рождения и пэром Франции по праву наследства, то есть имея почти все, что только может желать на земле здравомыслящий человек, находит, будучи тем, что он есть, удовольствие в том, чтобы быть тем, чем вы стали, вследствие чего враги считают его преступником, а друзья – глупцом. Кстати, передайте, пожалуйста, мой поклон господину аббату Симурдэну.
Маркиз говорил совершенно спокойно, просто, ничего не подчеркивая, тоном воспитанного человека, с ясным, светлым взором, заложив обе руки в карманы своего жилета. Он остановился, глубоко вздохнул и продолжил:
– Не скрою от вас того, что я сделал все, что было в моих силах, для того, чтобы убить вас. Уверяю вас, я сам, лично, три раза направлял на вас орудие. Я сознаюсь, что это было не очень вежливо, но было бы крайне ошибочно предполагать, будто во время войны неприятель должен стараться быть нам приятным. А ведь мы ведем войну с вами, господин мой племянник. Везде только кровь и огонь, и вы даже убили нашего короля. Хорошее времечко, нечего сказать!
Он снова остановился и опять продолжил:
– И как подумаешь, что ничего этого не случилось бы, если бы догадались повесить Вольтера и сослать на каторгу Руссо! О, что за бич Божий – эти умные люди! А кстати, в чем, собственно, вы упрекаете ее, эту монархию? Правда, что когда аббата Пюсселя ссылали в его аббатство Корбиньи, ему позволили ехать в карете и не торопили его в дороге; а что касается вашего господина Титона, который был, с вашего позволения, превеликий развратник и который предпочитал посещение публичных женщин посещению церкви, то его перевели из Венсенского замка в замок Гам, в Пикардии, место, я с этим согласен, не из самых приятных. Вот и все обвинения! Я помню их. И я, в свое время, немало кричал по этому поводу. Я был так же глуп, как и вы.
Маркиз потрогал свой жилетный карман, как бы ища в нем табакерку, и продолжал:
– Да, так же глуп, но не так же зол. Мы просто болтали для того, чтобы болтать. Тогда же существовала также и мания следствий и дознаний. А затем появились господа философы. Сожгли их сочинения вместо того, чтобы сжечь самих авторов, в дело замешались придворные интриги, выползли все эти олухи – Тюрго[398], Кенэ[399], Мальзербы[400], физиократы[401], и прочие и прочие, – пошла катавасия! Всему виною писаки и виршеплеты. Энциклопедисты! Дидро! Даламбер[402]! Негодяи они, больше ничего! А еще человек такого высокого рода и ума, как король прусский, попался на эту удочку! Я живо справился бы со всеми этими бумагомарателями. Со мною шутки были бы плохи. Вон они, на стене, борозды от колес, с помощью которых производилось колесование. Мы шутить не любили. Долой их, всех этих писак! Пока будут Вольтеры, будут и Мараты. Пока будут негодяи, марающие бумагу, будут и негодяи, которые убивают; пока будут чернила, будет черно; пока рука человеческая будет держать гусиное перо, пошлые глупости будут вызывать глупости жестокие. Книги создают преступников. Слово «химера» имеет двоякий смысл: оно означает и мечту и чудовище. И что вы там за чепуху такую несете? Что вы там лепечете о ваших правах? Права человека! Права народа! Что за бессмыслица, что за сумбур, что за нелепица! Когда я говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла с собой графство Бретань в приданое Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэлльскому, которому наследовал Ален Ферган, дядя Берты, вышедшей замуж за Алена Черного, владетеля Ром-сюр-Иона, и родившей от него Алена Малого, прадеда Гюи или, по местному произношению, Говэна де Туара, нашего общего предка, – когда я говорю это, я говорю нечто ясное, определенное, и это может явиться источником права. А ваши шуты, ваши бездельники, ваша голь перекатная – что они называют источником права? Богоубийство и цареубийство! Это ли не омерзительно? Мне очень жаль вас, милостивый государь, но и в ваших жилах течет славная кровь древнего бретонского рода; и вы и я, мы имеем общего предка – Говэна де Туара; к числу наших предков принадлежит и тот знатный герцог Монбазон, который был пэром Франции и имел орденскую цепь, который взял приступом Тур и был ранен в Аркском сражении[403] и который умер восьмидесяти шести лет от роду, в звании великого ловчего Франции в своем Кузьерском замке в Турени. Я мог бы еще упомянуть здесь о герцоге Ледюнуа, сыне госпожи де ла Гарнаш, о Клавдии Лотарингском, герцоге Шеврез, о Генрихе Ленонкур и о Франсуазе де Лаваль-Буадофэн. Но к чему все это? Вы, милостивый государь, – идиот, вы желаете быть ровней моему конюху. И, наконец, не забывайте того, что я был уже старик, когда вы были еще только молокососом. Я вам нос утирал и еще утру. А вы, выросши, ухитрились сделаться меньше. С тех пор как мы с вами в последний раз виделись, каждый из нас пошел своей дорогой: я – по пути чести, вы – в противоположную сторону. Да, я не знаю, чем все это кончится, но знаю то, что все ваши друзья – великие негодяи. Я не спорю, я согласен, многое теперь прекрасно, прогресс несомненен. Вы отменили в армии унизительное наказание – штоф воды, который должен был выпивать перед фронтом изобличенный в пьянстве солдат в течение трех дней кряду; у вас теперь Конвент, епископ Габель, господин Гебер, и вы беспощадно истребляете все остатки прошлого, начиная с Бастилии и кончая календарем. В календаре вы заменили святых овощами. Прекрасно, господа граждане, распоряжайтесь, располагайтесь, как вам удобнее, управляйте, важничайте, не стесняйтесь. Но все это не помешает тому, что религия останется религией, что королевская власть проходит пятнадцативековой полосою через всю нашу историю и что старинное французское дворянство, даже обезглавленное, будет стоять на целую голову выше вас! Что касается ваших придирок по поводу исторического права королевских родов, то мы на это ответим только пожатием плеч. Хильперик[404], в сущности, был лишь простым монахом, по имени Даниил; Хильперика изобрел Ренфруа для того, чтобы досадить Карлу Мартелу[405]; все это известно нам не хуже, чем вам. Вопрос вовсе не в этом, а в том, чтобы Франция осталась старой Францией, осталась великим государством, осталась той гармонически сложенной страной, в которой существует, во-первых, священная особа монархов, самодержавных властителей государства, затем существуют вельможи, затем слуги короны на суше и на море, в области финансов и администрации; далее существуют высшая и низшая юстиция, управление коронными имуществами, акцизами и податями и, наконец, государственная полиция в трех ее градациях. Все это было разумно и гармонично устроено; вы все это разрушили. Вы, жалкие невежды, разрушили провинциальное устройство, сами даже не ведая того, что такое провинциальное устройство. Гений Франции представляет собою амальгаму гениев всех других европейских стран, и каждая из французских провинций являлась представительницей одной из добродетелей Европы: немецкую откровенность можно было найти в Пикардии, шведское великодушие – в Шампани, голландское трудолюбие – в Бургундии, подвижность Польши – в Лангедоке, испанскую важность – в Гаскони, итальянскую мудрость – в Провансе, греческую проницательность – в Нормандии, швейцарскую верность – в Дофинэ. Вы ничего этого не хотели знать. Вы безжалостно все ломали, разрушали, низвергали и спокойно разыграли роль бессмысленных зверей. А, вы не желаете больше иметь дворянства! Ну, его у вас и не будет. Вы сами об этом пожалеете. У вас не будет рыцарей, не будет героев. Прощай, прежнее величие! Найдите-ка мне теперь другого д’Ассиса. Вы все дрожите за вашу шкуру! У вас не будет больше рыцарей Фонтенуа[406], вежливо раскланивавшихся, прежде чем убить человека; у вас не будет более бойцов в шелковых чулках, как при осаде Лериды[407]; у вас уже не будет более тех изящных битв, в которых султаны мелькали, как метеоры. Вы – народ отпетый. Вы сделаетесь жертвой нашествия, насилия. Если Аларих[408] возвратится, он уже не встретит Хлодвига[409]; если Абдуррахман[410] возвратится, он уже не очутится лицом к лицу с Карлом Мартелом; если саксы возвратятся, они уже не увидят пред собою Пипина[411]; вам не дождаться уже таких битв, как битвы при Аньяделло[412], Рокруа[413], Лансе[414], Стаффарде[415], Штейнкирхене[416], Ла Марсайле, Року[417], Лауфельде[418], Магоне; вам уже не дождаться Мариньяно[419] с Франциском Первым[420], Бувина[421] с Филиппом-Августом[422], берущим в плен одною рукой Рено, графа Бульонского, а другой – Феррана, графа Фландрского. Вы, пожалуй, дождетесь Азенкура[423], но у вас не найдется знаменосца Банвилля, который, завернувшись в свое знамя, спокойно даст себя убить. Ничего, ничего, продолжайте! Будьте новыми людьми! Мельчайте!
Маркиз помолчал с минуту и продолжал:
– Но мы не желаем мельчать. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, низвергайте, разрушайте, умерщвляйте все, топчите все ногами, наступайте каблуками ваших сапог на стародавние предания, топчите ногами трон, пляшите на алтаре, низвергайте Бога, смейтесь над ним, это – ваше дело! Вы трусы и изменники, не способные на преданность и на жертвы! Я сказал все, что желал сказать. Теперь велите вести меня на гильотину, господин виконт. Имею честь быть вашим всепокорнейшим слугою. Да, да, я вам наговорил много горьких истин. Впрочем, что же? Для меня это все равно: я человек мертвый.
– Вы – свободны, – проговорил Говэн.
Он приблизился к маркизу, снял с себя свой плащ, накинул его ему на плечи и опустил ему на глаза капюшон. Оба они были одинакового роста.
– Послушай, что ты делаешь? – воскликнул маркиз.
– Лейтенант, выпустите меня! – крикнул Говэн в дверь, не отвечая маркизу.
Дверь распахнулась.
– Не забудьте снова запереть дверь за мной, – крикнул снова Говэн и вытолкнул за дверь удивленного маркиза.
Нижний зал, превращенный в гауптвахту, освещался, как уже было сказано, лишь одним тускло горевшим фонарем, так что в комнате царил полумрак. При этом слабом свете те из солдат, которые еще не спали, видели, как через них и их спящих товарищей шагал, направляясь к двери, человек высокого роста, в плаще и в обшитом галуном капюшоне их полковника; они отдали ему честь, и человек этот прошел мимо.
Маркиз медленными шагами прошел через гауптвахту, пролез через пролом, не раз стукнувшись о него головой, и вышел на лужайку. Стоявший тут часовой, признав в нем Говэна, отдал ему честь.
Выйдя на лужайку, чувствуя под своими ногами, вместо каменных плит, луговую траву, видя в двухстах шагах перед собой лес, а за лесом – тьму, простор, свободу, жизнь, он остановился на минуту, как человек, с которым только что случилось нечто необычайное, который поступил необдуманно и теперь, воспользовавшись открытою дверью, старается сообразить, хорошо ли он поступил или дурно, колеблется, идти ли ему дальше, и старается собраться с мыслями. После нескольких секунд глубокой задумчивости он поднял кверху правую руку, щелкнул пальцами, проговорил: «Однако!» – и направился в лес.
Дверь темницы заперли опять. Там остался Говэн.
II. Военно-полевой суд
В те времена военно-полевой суд был донельзя упрощен. Это была простая расправа. Дюма[424] в Законодательном собрании представил проект военно-уголовного судопроизводства, состоявший всего из нескольких параграфов. Впоследствии Тало несколько дополнил его в Совете пятисот, но окончательный устав военного судопроизводства был издан только при Империи. Здесь кстати будет заметить, что только со времен Империи ведет свое начало правило о том, чтобы при постановлении решений военно-полевых судов голоса подавались начиная с младшего чина. В эпоху Революции этого правила не существовало.
В 1793 году председатель военно-полевого суда олицетворял собой почти весь состав трибунала: он выбирал остальных членов, вел допрос, определял порядок подачи мнений. Он был не столько членом, сколько хозяином трибунала.
Симурдэн решил, что заседание суда будет происходить в том самом зале нижнего этажа, в котором при защите замка устроена была баррикада и где теперь была гауптвахта. Он считал нужным сократить все: как путь из темницы до зала заседаний, так и путь из зала заседаний до эшафота.
В полдень, согласно его распоряжению, заседание суда открылось при следующей обстановке: три соломенных стула, стол из елового дерева, на столе две зажженные свечи, перед столом табурет. Стулья предназначались для судей, табурет – для подсудимого. По обеим сторонам стола стояли два других табурета: один для военного прокурора, должность которого исполнял полковой фурьер, другой для секретаря, которым назначили капрала. Позади среднего стула было расставлено несколько трехцветных знамен. В эту эпоху грубой простоты декорации не были изысканны, и требовалось не очень много времени для того, чтобы превратить гауптвахту в зал судебных заседаний.
Средний стул, предназначавшийся для председателя, стоял как раз напротив двери тюремной кельи, около которой стояли два жандарма с саблями наголо. Солдаты составляли публику.
На среднем стуле сидел Симурдэн, направо от него старший член суда, капитан Гешан, налево – младший член, сержант Радуб, в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Проходивший через все его лицо шрам ярко-красного цвета придавал ему какое-то свирепое выражение. Он, впрочем, в конце концов послушался советов своих товарищей и дал перевязать свою рану. Голова его была перевязана платком, на котором виднелось большое красное пятно.
В полдень, еще до открытия заседания, близ судейского стола стоял солдат посыльный, лошадь которого фыркала возле пролома. Симурдэн писал депешу. Вот что он писал: «Граждане-члены Комитета общественного спасения. Лантенак захвачен в плен. Он будет казнен завтра». Затем он проставил число, подписал депешу, сложил, запечатал ее и передал ее посыльному, который немедленно ускакал.
После того он произнес громким голосом:
– Отоприте темницу.
Стоявшие возле двери два жандарма отодвинули запоры, отворили дверь и вошли в карцер.
Симурдэн поднял голову, скрестил на груди руки, взглянул на дверь и крикнул:
– Приведите арестанта!
В оставшейся отворенной двери появился среди двух жандармов арестант. То был Говэн.
– Говэн! – воскликнул, вздрогнув, Симурдэн и вслед затем сейчас же прибавил: – Я арестанта требовал.
– Я и есть арестант, – ответил Говэн.
– Как ты? А Лантенак?
– Лантенак свободен. Он ушел.
– Да, да, действительно, – заговорил Симурдэн дрожащим голосом, – этот замок принадлежал ему, он знает в нем все входы и выходы. Из темницы есть, вероятно, какой-нибудь потайной выход. Мне бы раньше следовало об этом подумать. Он, очевидно, нашел какое-нибудь средство бежать, обойдясь без всякой посторонней помощи.
– Нет, ему помогли бежать, – промолвил Говэн.
– Помогли бежать? Но кто же?
– Я.
– Ты! Не может быть! Ты бредишь!
– Я приходил к нему в темницу, разговаривал наедине с узником, отдал ему свой плащ, закутавшись в который он вышел из темницы вместо меня, а я остался в ней вместо него. А теперь я здесь перед вами.
– Неправда, не может быть, ты этого не сделал.
– Нет, это совершенная правда. Я это сделал.
– Приведите сюда Лантенака!
– Да говорят же вам, что его уже нет здесь. Солдаты, видя на нем мой плащ, позволили ему беспрепятственно пройти, приняв его за меня, тем более что было еще темно.
– Ты с ума сошел!
– Я рассказываю только то, что было.
Наступило молчание. Наконец, Симурдэн начал, заикаясь:
– Но в таком случае ты заслуживаешь…
– Смерти, – закончил за него Говэн.
Симурдэн был бледен, как мертвец, и неподвижен, как человек, которого только что поразила молния. Он, казалось, задыхался. На лбу его выступили крупные капли пота. Наконец ему удалось придать своему голосу некоторую твердость, и он проговорил:
– Жандармы, посадите подсудимого на его место.
Говэн уселся на табурет подсудимого.
– Жандармы, обнажите ваши сабли, – продолжал Симурдэн.
Это была обычная формула, употреблявшаяся в военно-полевом суде, когда подсудимый обвинялся в преступлении, за которое полагалась смертная казнь. Жандармы обнажили сабли.
Голос Симурдэна снова принял свое обычное выражение.
– Подсудимый, встаньте! – проговорил он.
Он больше уже не обращался к Говэну на «ты».
III. Голосование
Говэн поднялся с места.
– Ваше имя? – спросил Симурдэн.
– Говэн, – ответил подсудимый.
– Ваше звание? – продолжал Симурдэн допрос.
– Командующий экспедиционной колонной на северном побережье.
– Вы находитесь в родстве или свойстве с бежавшим пленником?
– Я его внучатый племянник.
– Известна ли вам прокламация Конвента?
– Я вижу один ее экземпляр на судейском столе.
– Что вы можете объяснить по поводу этого декрета?
– Что я скрепил его своей подписью, велел приводить его в исполнение и сам составил то объявление, внизу которого значится мое имя.
– Выберите себе защитника.
– Я сам себя буду защищать.
– Слово за вами.
К Симурдэну снова возвратилась вся его невозмутимость. Только эта невозмутимость была больше похожа на неподвижность скалы, чем на спокойствие человека.
Говэн молчал, как бы собираясь с мыслями.
– Что вы можете сказать в свою защиту? – продолжал Симурдэн.
Говэн медленно поднял голову и, ни на кого не глядя, ответил:
– А вот что: одна вещь помешала мне разглядеть другую; доброе дело, увиденное мною вблизи, скрыло от взоров моих сотню преступных дел; с одной стороны, старик, с другой стороны, трое детей, все это встало между мной и сознанием моего долга. Я забыл про сожженные деревни, про опустошенные поля, про умерщвленных пленников, про добитых раненых, про расстрелянных женщин, про Францию, выданную англичанам, – и освободил убийцу отечества. Я виновен. Говоря это, я как бы свидетельствую против самого себя. Но это не соответствует действительности: я говорю за себя. Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что заслуживает спасения, – свою честь.
– И вы больше ничего не можете сказать в свое оправдание? – спросил Симурдэн.
– Я могу только прибавить, что, будучи начальником, я должен был подавать собой пример и что так же должны поступать и вы, господа, как судьи.
– Какой пример вы подразумеваете?
– Смертную казнь. Я нахожу ее справедливой и даже необходимой.
– Садитесь, подсудимый.
Фурьер, исполнявший обязанности прокурора, встал со своего места и прочел, во-первых, декрет, которым бывший маркиз Лантенак объявлялся стоящим вне закона; во-вторых, декрет Конвента, предписывающий смертную казнь всякому, кто будет способствовать бегству пленного бунтовщика. В заключение он обратил внимание суда на значившуюся в конце афиши подпись: «Командующий экспедиционным отрядом Говэн».
Окончив чтение, фурьер-прокурор опустился на свой стул. Симурдэн, скрестив руки, сказал:
– Подсудимый, призываю вас быть внимательным. Публика, вы можете смотреть и слушать, но должны молчать. Вы имеете дело с ясным и точным законом. Сейчас будет проведено голосование; приговор будет вынесен простым большинством голосов. Каждый из судей подаст свой голос по очереди, вслух, в присутствии обвиняемого, так как правосудию нечего скрывать. Слово за старшим из судей. Ваше мнение, капитан Гешан.
Капитан Гешан, казалось, не видел ни Симурдэна, ни Говэна. Он устремил глаза на афишу, на которой был перепечатан декрет Конвента, и смотрел в нее, точно в бездну.
– В законе сказано коротко и ясно, – наконец, проговорил он. – Судья, в одно и то же время, и больше и меньше, чем человек. Он меньше, чем человек, ибо ему не полагается сердца; он больше, чем человек, ибо ему дан меч. В 414 году от основания Рима Манлий[425] казнил своего сына, который провинился в том, что одержал победу без его позволения; нарушение дисциплины требовало наказания. Здесь мы имеем дело с нарушением закона, а закон должен стоять еще выше, чем дисциплина. Неуместное сострадание может подвергнуть опасности отечество. Полковник Говэн дал возможность бежать бунтовщику Лантенаку. Говэн виновен, я подаю голос за смертную казнь.
– Секретарь, запишите, – проговорил Симурдэн.
Секретарь записал: «Капитан Гешан – за смертную казнь».
Говэн произнес громким голосом:
– Гешан, ваше мнение правильно. Благодарю вас.
– Слово за вторым судьей, – продолжал Симурдэн. – Сержант Радуб, говорите!
Радуб поднялся с места, повернулся в сторону Говэна и отдал ему честь. Затем он воскликнул:
– Если это все так, то казните и меня! Ибо, клянусь честью, я бы сам поступил так, как, во-первых, поступил старик, а во-вторых – как господин полковник. Когда я увидел этого восьмидесятилетнего старца кинувшимся в огонь, чтобы вытащить оттуда троих ребятишек, я сказал себе: «А ведь славный он человек, право». А когда я услышал, что господин полковник спас старика от вашей дурацкой гильотины, я, черт возьми, сказал себе: «Полковника следовало бы произвести за это в генералы, он просто молодец, и если бы существовали еще кресты и святые, я дал бы ему крест Святого Людовика». И неужели мы теперь сделаем глупость? Если для этого выиграны были сражения при Вальми, при Жеммапе, при Флерюсе[426] и при Вальтиньи, так это нужно было сказать заранее. Как! Перед вами тот самый полковник Говэн, который в течение четырех месяцев не перестает бить этих неучей-роялистов, который своей шпагой спасает республику, который так блистательно и умно выиграл Дольское дело, – перед вами такой человек, и вы стараетесь от него отделаться! Вместо того чтобы произвести его в генералы, вы собираетесь отрубить ему голову! Да ведь это все равно что броситься вниз головою через перила Нового моста; и если бы вы сами, гражданин Говэн, были не моим начальником, а подчиненным, я бы сказал вам, что вы только что наговорили удивительные глупости. Старик хорошо сделал, что спас детей, вы хорошо сделали, что спасли старика, и если людей начнут казнить за то, что они совершают хорошие поступки, то все пойдет к черту и я ничего больше не буду понимать. На чем же мы тогда остановимся? Мне просто не верится, чтобы все это творилось наяву; я ничего не понимаю. Значит, старику следовало дать ребятишкам сгореть живьем; значит, полковнику следовало допустить, чтобы старику отрубили голову! Ну, в таком случае рубите мне голову; по мне, это все равно. Если бы ребятишки погибли, батальон Красной Шапки был бы обесчещен. Этого, что ли, добивались? Что мы – людоеды, что ли? Я ведь тоже кое-что смыслю в политике: ведь я был членом Пикового клуба. Мы просто делаемся какими-то скотами, животными. Я откровенно высказываю свое мнение; я не люблю неопределенных положений. Для чего же, наконец, черт побери, мы даем убивать друг друга? Для того чтобы нам убили нашего начальника? Как бы не так! Мне нужен мой начальник. Сегодня он мне еще более дорог, чем был вчера. Взвести его на гильотину – да это просто было бы смешно! НЕТ, уж пожалуйста, избавьте нас от этого! Пусть говорят, что хотят, но это немыслимо.