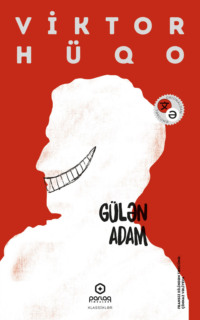полная версия
полная версияДевяносто третий год

Виктор Гюго
Девяносто третий год
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИД Литература», 2010
Часть первая
На море
Книга первая. Содрейский лес
В последних числах мая 1793 года один из батальонов парижской национальной гвардии, приведенных в Бретань Сантерром[1], осуществлял поиск в страшном Содрейском лесу близ Астилье. В батальоне было под ружьем не более трехсот человек, так как все остальные офицеры и солдаты выбыли из строя во время кровопролитной кампании. Подобное явление, впрочем, в те времена было не редкостью: так, после сражений при Аргонни, Жемаппе[2] и Вальми[3] от первого парижского батальона, состоявшего из шестисот волонтеров, осталось 27 человек, от второго – 33 и от третьего – 57. То была эпоха эпической борьбы.
Всего в батальонах, присланных из Парижа в Вандею, насчитывалось теперь только 912 человек. При каждом батальоне было по три орудия. Формирование их было осуществлено очень быстро. 25 апреля, при министре юстиции Гойэ[4] и военном министре Бушотте[5], комитет общественной безопасности предложил послать в Вандею батальоны волонтеров; докладчиком по этому предложению был Любен. 1 мая Сантерр уже в состоянии был отправить 12 000 солдат, тридцать полевых орудий и один батальон канониров. Эти батальоны, несмотря на быстроту их мобилизации, были так хорошо снаряжены, что в этом отношении они могли бы служить образцом и в наши дни. Действительно, современные линейные батальоны формируются совершенно по той же системе; лишь несколько изменена прежняя пропорция между числом солдат и офицеров.
28 апреля парижская Коммуна дала волонтерам Сантерра следующее напутствие: «Не давать пощады никому». К концу мая из 12 000 человек, отправившихся из Парижа, восьми тысяч уже не было в живых.
Батальон, вступивший в Содрейский лес, продвигался вперед с величайшею осторожностью, не торопясь, стараясь глядеть одновременно во все стороны. Недаром Клебер[6] сказал, что у солдата один глаз должен быть на затылке. Шли что-то уж очень долго. Который бы мог быть час? Какое время дня? Трудно было бы ответить на эти вопросы, потому что в таких непроходимых дебрях всегда стоят сумерки и никогда не бывает полудня.
Содрейский лес уже имел мрачное прошлое. Именно в нем, в ноябре 1792 года, начались ужасы междоусобной войны. Хромоногий изверг Мускетон вышел именно из его зловещей чащи; от одних рассказов о совершенных именно в этом лесу преступлениях волосы на голове становятся дыбом. Словом, более зловещего места трудно было бы отыскать. Солдаты продвигались вперед, точно ощупью. Все было в полном цвету. Кругом возвышалась трепещущая стена из ветвей, распространявшая приятную прохладу; солнечные лучи пронизывали там и сям эту зеленоватую тень; шпажник, болотный касатик, луговой нарцисс, ландыш, весенний шафран расстилались по земле, образуя пышный и пестрый растительный ковер, фон которого составляли разные породы мха, начиная от такого, который похож на гусениц, и кончая тем, который похож на звездочки. Солдаты шли вперед медленным шагом, молча, потихоньку раздвигая кусты. Птички щебетали, носясь над остриями штыков.
Содрейский лес был одной из непроходимых лесных дебрей, в которых, в прежние мирные времена, устраивались ночные охоты на птиц; теперь в нем охотились на людей. Здесь росли березы, буки и дубы, почва была ровная; мох и густая трава заглушали шум людских шагов. В нем не было почти никаких тропинок, а если какие и попадались, то они тотчас же терялись опять. Повсюду виднелись остролистники, дикий терн, папоротник, целая изгородь колючих кустов, так что невозможно было в десяти шагах разглядеть человека. Время от времени в кустарнике пролетали цапли или бекасы, свидетельствовавшие о близости болот.
А люди все шли. Они шли наугад, испытывая тревогу и опасаясь найти то, что они искали. Изредка встречались следы недавних лагерей: выжженные места, смятая трава, жерди в виде крестов, окровавленные сучья. Здесь варили похлебку, там служили обедню, в третьем месте перевязывали раненых. Но те, которые побывали здесь, исчезли. Где же они? Быть может, далеко. А быть может, и тут, совсем близко, где-нибудь за кустом, с мушкетом в руке. Лес казался пустынным. Батальон удвоил осторожность. Безмолвие – верный знак опасности. Никого не видно – значить, есть лишний повод предполагать, что тут кто-нибудь спрятался. Лес вообще пользовался недоброй славой, и было полное основание ожидать засады.
Тридцать гренадеров, высланных под командой сержанта вперед в качестве разведчиков, шли на довольно значительном расстоянии впереди отряда. Их сопровождала маркитантка батальона. Маркитантки вообще любят присоединяться к авангардам; их побуждает к тому любопытство: хотя и опасно, но зато скорее увидишь что-нибудь интересное. Любопытство является у женщин стимулом храбрости.
Вдруг солдаты этого небольшого передового отряда вздрогнули, как вздрагивает охотник, заметивший логовище зверя. Среди чащи послышалось точно чье-то дыхание и листья как будто зашевелились. Солдаты переглянулись. В разведке офицерам редко приходится вмешиваться и что-нибудь приказывать: то, что должно быть сделано, делается само собою.
Менее чем в минуту то место, в котором замечено было движение, было окружено, и дула ружей направились в одну точку, в темную середину чащи; солдаты, взведя курки и уставив глаза в подозрительный пункт, ждали только команды сержанта, чтобы начать стрельбу. Однако маркитантка решилась заглянуть сквозь кустарник в чащу и в то самое мгновение, когда сержант собирался скомандовать «пли», она воскликнула: «Стой!» и прибавила, обращаясь к солдатам: «Товарищи, не стреляйте!»
Затем она бросилась в чащу. Солдаты последовали за нею.
В самой густой чаще, на краю одной из тех круглых крохотных лужаек, которые образуются в лесах от угольных печей, сжигающих корни деревьев, и которые похожи на круглые беседки, сидела на мху в углублении, заваленном ветками и похожем на альков, женщина, кормившая грудью ребенка, между тем как на коленях ее лежали две белокурые головки двух других спящих детей. Это и была засада.
– Эй вы, что вы тут делаете? – окликнула ее маркитантка.
Женщина подняла голову.
– Что вы, с ума сошли? – продолжала маркитантка, сердитым голосом. – Ведь еще одна секунда – и вас бы подстрелили.
И затем, обращаясь к солдатам, маркитантка прибавила:
– Это женщина.
– Сами видим что женщина, черт побери! – пробормотал один гренадер.
– Что за фантазия забираться в лес, чтобы быть убитой! – продолжала маркитантка. – Ведь придет же в голову этакая глупость!
Женщина, изумленная, растерянная, как бы окаменевшая, озиралась по сторонам, как спросонок, переводя глаза то на ружья, то на сабли, то на штыки, то на сердитые лица солдат. Спавшие на коленях ее дети проснулись и закричали.
– Я есть хочу! – вопил один.
– Я боюсь! – ревел другой.
Только грудной ребенок продолжал спокойно сосать грудь.
– В своем ли ты уме? – продолжала, обращаясь к женщине, маркитантка.
Но женщина от испуга не могла произнести ни слова. Наконец сержант крикнул ей:
– Не бойтесь! Мы – солдаты республики.
Женщина задрожала всем телом. Она взглянула на сержанта. Лицо у того, все обросшее волосами, из-под которых, как два уголька, светились два глаза, не имело в себе ничего особенно успокоительного.
– Да, да, это батальон Красной Шапки, бывший Красного Креста, – подтвердила маркитантка.
– Ты кто такая будешь, сударыня? – продолжал сержант.
Но женщина только испуганно таращила на него глаза. Она была молода, бледна, худощава и одета в рубище; вместо всякой одежды на ней накинуто было старое шерстяное одеяло, завязанное около шеи бечевкой, а на голове у нее был надет неуклюжий капор бретонских крестьянок. Она выставляла напоказ свою обнаженную грудь с равнодушием самки. Ее босые ноги были все в крови.
– Это, должно быть, нищенка, – проговорил сержант.
– Как вас звать? – спросила маркитантка более мягким голосом.
– Мишель Флешар, – пробормотала женщина, запинаясь и едва слышно.
Маркитантка, приблизившись к ней, стала гладить своей большой и грубой рукой голову грудного ребенка.
– Сколько ему месяцев? – спросила она.
Мать не поняла, и маркитантка повторила свой вопрос.
– А-а! – ответила мать. – Восемнадцать месяцев.
– Ну, в таком возрасте пора бы уже и отнять его от груди, – заметила маркитантка. – Поручите-ка его мне; мы его накормим супом.
Мать стала успокаиваться. Оба старших ребенка, окончательно проснувшись, проявляли больше любопытства, чем испуга, и с видимым удовольствием рассматривали плюмажи солдат.
– Да, да, – заговорила мать, – они очень голодны. А у меня больше нет молока, – прибавила она.
– Их накормят, – закричал сержант, – и тебя также. Но прежде всего: каковы твои политические убеждения?
Женщина взглянула на сержанта и молчала.
– Слышала, что я тебя спрашиваю? – строго промолвил сержант.
– Меня отдали в монастырь ребенком, – пробормотала она, – но я не захотела сделаться монахиней и вышла замуж. Сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Я так торопилась бежать, что не успела обуться.
– Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?
– Я не знаю, что это значит.
– Дело в том, что здесь немало развелось шпионок, – продолжал сержант, – а мы их расстреливаем, этих шпионок. Ну же, говори! Ведь ты не цыганка? Где твое отечество?
Женщина продолжала смотреть на него, как бы не понимая его. Сержант повторил свой последний вопрос.
– Я не знаю, – ответила она.
– Как?.. ты не знаешь, где твоя родина?
– А-а, где моя родина? Как же, знаю.
– Ну, так где же твоя родина?
– В Азеском приходе, на Сисконьярской ферме, – ответила женщина.
Теперь сержант удивился в свою очередь. Он на минуту задумался и затем переспросил:
– Как ты сказала? Сисконьярская ферма? Да это не отечество!
– Но я там родилась, – настаивала женщина и прибавила, подумав с минуту: – А-а, теперь я поняла, сударь! Вы родом из Франти, а я – из Бретани.
– Ну, так что ж такое?
– Да ведь это две различные страны!
– Но отечество-то это общее! – закричал сержант.
– Я родом из Сисконьяра, – продолжала твердить женщина.
– Ну, пусть будет из Сисконьяра, – согласился сержант. – Так там живет твоя семья? Чем она занимается?
– Моя семья вся умерла. У меня никого не осталось родных.
Сержант, будучи от природы не дурак поговорить, продолжал свой допрос:
– Ну, так если теперь не осталось, так были же прежде, черт побери! Кто ты такая? Говори!
Женщина продолжала слушать, вся растерянная. Наконец маркитантка нашла нужным вмешаться в дело. Она снова принялась гладить грудного младенца по головке и похлопала по щечкам двух старших.
– Как зовут эту сосунью? – спросила она. – Ведь это девочка, не так ли?
– Жоржетта, – ответила мать.
– А старшего? Ведь это мужчина, этот шалун?
– Рене-Жан.
– А младшего? Ведь это тоже мужчина, да еще какой толстощекий?
– Гро-Ален, – ответила мать.
– Хорошенькие мальчики, – продолжала маркитантка. – Надо полагать, что из них выйдет прок.
– Ну, так говори же, сударыня, – настаивал сержант, – есть ли у тебя свой дом?
– Был дом, в Азэ, но теперь нет.
– Отчего же ты не живешь в своем доме?
– Потому что его сожгли.
– Кто сжег?
– Не знаю. Кажется, битва сожгла.
– Откуда же ты идешь?
– Оттуда и иду.
– А куда?
– Я сама не знаю.
– Дело говори. Кто ты такая?
– Не знаю.
– Как, ты не знаешь, кто ты такая?
– Я просто женщина, ищущая спасения для себя и для своих детей.
– К какой ты принадлежишь партии?
– Не знаю.
– Принадлежишь ли ты к синим? К белым? За кого ты стоишь?
– Я стою за своих детей.
Наступило молчание. Наконец маркитантка снова вмешалась в разговор.
– У меня никогда не было детей, – заметила она. – У меня на это не хватало времени.
– А родители твои? – продолжал сержант. – Изволь-ка, сударыня, сообщить нам что-нибудь о твоих родителях. Моя фамилия Радуб, я сержант, я родился в Париже на улице Шерш-Миди, где родились также и мой отец и моя мать. Видишь, я не стесняюсь говорить о своих родителях. Так не угодно ли и тебе рассказать о своих?
– Их фамилия была Флешар. Вот и все.
– Ну, Флешар так Флешар, Радуб так Радуб. Но всякий человек принадлежит к какому-нибудь сословию. К какому же сословию принадлежали твои родители? Чем они занимаются или, по крайней мере, чем они занимались?
– Они были земледельцы. Отец мой был человек хворый и не мог работать, вследствие того что барин, его барин, наш барин, приказал избить его палками, что было еще очень милостиво, так как отец мой украл кролика, за что, собственно, полагается смертная казнь. Но барин наш помиловал его и сказал: «Дайте ему только сто палок». И отец мой остался калекой.
– Продолжай.
– Дед мой был гугенот, и наш приходский священник устроил так, что его сослали на каторжные работы. Я в то время была еще совсем маленькая.
– Продолжай.
– Отец моего мужа занимался продажей соли. Король велел его за это повесить.
– А муж твой? Чем он занимается?
– В последние дни он сражался.
– За кого?
– За короля, за нашего барина, за господина кюре.
– Черт побери этих скотов! – воскликнул один из гренадеров.
Женщина вздрогнула.
– Вы видите, сударыня, что мы парижане, – любезно заметила маркитантка.
– О, Господи Иисусе! – воскликнула женщина, складывая руки, как бы для молитвы.
– Пожалуйста, без этих глупостей! – строго заметил сержант.
Маркитантка уселась возле женщины и привлекла к себе на колени одного из мальчиков, который нисколько не упирался. Дети так же легко успокаиваются, как и легко пугаются. И то и другое часто бывает без всякой видимой причины. Должно быть, в них говорил какой-нибудь внутренний голос.
– Ну, милая моя землячка, – заговорила маркитантка, – у вас премилые ребята, это верно. Не трудно угадать их возраст. Старшему четыре года, а вот этому – три. А эта сосунья – удивительная обжора. Ах ты, дрянная девчонка! Да ты этак совсем съешь свою маму! Не бойтесь, сударыня. Только я бы посоветовала вам поступить в наш батальон. Берите пример с меня. Зовут меня Гусарихой. Это, конечно, прозвище, но мне больше нравится, чтобы меня звали Гусарихой, чем мамзель Бикорно, как звали мою мать. Я – шинкарка, я, так сказать, утоляю жажду людей, занятых взаимным истреблением. Всякому свое. У нас с вами, кажется, одинаковая нога: я вам дам надеть свои башмаки. Я была в Париже десятого августа[7] и угощала вином самого Вестермана[8]. Вот это был денек! Я видела, как отрубили голову Людовику Шестнадцатому, т. е. Людовику Капету, хотела я сказать. Ах, как ему не хотелось умирать! Послушайте-ка, вы знаете, что еще не далее как тринадцатого января он сам жарил каштаны и смеялся в кругу своего семейства. Когда его насильно положили на доску, на нем не было уже ни кафтана, ни башмаков; он был одет только в рубашку, пикейный жилет, панталоны из серого сукна и серые же шелковые чулки. Ну, так идемте с нами, что ли? Славные ребята в нашем батальоне. Вы будете второй маркитанткой, я вас научу всем приемам. Тут, впрочем, нет ничего мудреного. У вас будет манерка и колокольчик, вы будете расхаживать среди сражающихся, звоня в колокольчик, чтобы вас было слышно при пушечной и ружейной пальбе и вообще среди шума битвы, и будете выкрикивать: «кто желает выпить чарочку, ребята?» Вот и вся недолга! Я угощаю всех без различия, и белых и синих, – ей-богу! – хотя сама я принадлежу к синим и даже к темно-синим. А все же я не откажу никому в чарке вина. Ведь раненые всегда чувствуют сильную жажду, а умирать одинаково тяжело, к какой бы партии ни принадлежать. Знаете ли, людям умирающим следовало бы перед смертью пожимать друг другу руку. Как глупо драться! Ну, так идемте же с нами. Если меня убьют, вы заступите на мое место. Видите ли, я в сущности добрая женщина и хороший человек. Не бойтесь ничего.
Когда маркитантка перестала тараторить, женщина пробормотала:
– Нашу соседку звали Мари-Жанной, а нашу работницу Мари-Клод.
Тем временем сержант Радуб журил гренадера.
– Замолчишь ли ты, – говорил он. – Ты ее напугал. В присутствии дам нельзя браниться.
– Да как же тут не браниться честному человеку, – ворчал гренадер, – когда видишь таких уродов, свекор которых был искалечен барином, тесть отправлен по милости попа на каторгу, а отец повешен по милости короля, и которые тем не менее, черт побери, бунтуют, хватаются за оружие и лезут на смерть из-за своего барина, попа, короля!
– Молчать! – закричал сержант.
– Молчу, молчу, господин сержант, – произнес гренадер. – Но тем не менее досадно видеть, что такая хорошенькая женщина рискует жизнью из-за какого-то сумасброда.
– Гренадер, – строго заметил сержант, – здесь не политический клуб, нечего разглагольствовать. – И он продолжил, обращаясь к женщине: – А твой муж, сударыня? Чем он занимается? Что с ним сталось?
– Он ничем не занимается, так как его убили.
– Убили? Когда? Где?
– Три дня тому назад, в рядах ополчения.
– Кто же его убил?
– Не знаю.
– Как, ты не знаешь, кто убил твоего мужа? По крайней мере, был ли это синий, белый?
– Не знаю. Я знаю только, что он был убит выстрелом из ружья.
– Три дня тому назад, говоришь ты? Но в каком месте?
– Около Эрнэ. Мой муж был убит в сражении. Вот и все.
– А с тех пор, как муж твой умер, что ты делаешь?
– Вот, несу моих малюток.
– Куда же ты их несешь?
– Куда глаза глядят.
– А где же ты ночуешь?
– Под открытым небом.
– Чем ты питаешься?
– Ничем.
Сержант повел своими усищами и переспросил:
– Ничем?
– То есть терновыми ягодами, ежевикой, морошкой, которые остались от прошлого года, черникой, молодыми побегами папоротника.
– Только-то? Ну, это все равно, что ничем.
Старший из мальчиков, должно быть, поняв, о чем шел разговор, пролепетал:
– Есть хочется!
Сержант вынул из кармана кусок черного хлеба и подал его матери. Та разломила кусок пополам и отдала по куску каждому из мальчиков, которые с жадностью принялись его есть.
– А для себя она ничего не оставила, – проворчал сквозь зубы сержант.
– Значит, не голодна, – заметил один из солдат.
– Нет, это значит, что она мать, – возразил сержант.
– Я пить хочу, – заговорил один из мальчиков.
– Я пить хочу, – повторил другой.
– Да ведь в этом чертовском лесу нет даже и ручейка, – сердито произнес сержант.
Маркитантка сняла со своего пояса медную чарку, прицепленную рядом с колокольчиком, отвернула кран жбана, висевшего у нее через плечо, наполнила чарку и поднесла ее к губам детей. Старший хлебнул и скорчил гримасу. Младший хлебнул и выплюнул.
– Что же вы? Ведь это же вкусно, – сказала маркитантка.
– Это что такое? Горлодер? – спросил сержант.
– Да, и притом первого сорта. Но ведь они мужичье! – и она сердито вытерла чарку.
– Итак, сударыня, – снова начал сержант, – ты таким образом спасаешься в лесу?
– Что же делать! Я бегу, пока хватает сил, потом иду потише, потом падаю.
– Вот бедняга! – проговорила маркитантка.
– Кругом дерутся, – пробормотала женщина. – Отовсюду только и слышишь, что ружейные выстрелы. Я не знаю, чего им друг от друга нужно. У меня убили мужа, – я смогла понять только это.
– Что за глупая вещь война, черт побери! – воскликнул сержант, стукнув о землю прикладом своего ружья.
– Прошлую ночь мы переночевали в мшиннике, – продолжала женщина.
– Как в мшиннике? Быть может, в дупле? Значит, вы все четверо ночевали стоя?
И он продолжал, обращаясь к солдатам:
– Ребята, эти дикари называют мшинником толстое, пустое внутри дерево, в которое человек может влезть, точно в футляр. Что поделаешь с их невежеством! Ведь не всякому довелось побывать в Париже.
– Спать в дупле! – воскликнула маркитантка. – Да еще с тремя ребятишками!
– Воображаю себе, – продолжал сержант, – как смешно было прохожим, ничего не видевшим, слышать раздававшийся из дупла детский рев и крики: «папа», «мама».
– Хорошо еще, что теперь лето! – вздохнула женщина, и она, с покорным видом, потупила глаза, как бы преклоняя голову перед обрушившеюся на нее тяжестью катастрофы.
Солдаты молча обступили ее. Вдова, трое сирот, бегство, одиночество, беспомощность, война, обложившая тучами весь горизонт, голод, жажда, трава для утоления голода, небо вместо крова – этот избыток несчастья, очевидно, производил на них тяжелое впечатление.
Сержант приблизился к женщине и стал пристально смотреть на девочку, прижавшуюся к груди. Малютка перестала сосать, потихоньку повернула голову, взглянула своими светлыми голубыми глазками на наклонившееся над нею страшное, обросшее волосами лицо и улыбнулась. Сержант выпрямился, и крупная слеза скатилась по его щеке, остановившись, точно жемчужина, на кончике его громадного уса.
– Ребята, – заговорил он, – я по всему вижу, что батальону вскоре придется сделаться отцом семейства. Не так ли? Давайте, усыновим этих трех малюток!
– Да здравствует республика! – раздалось в группе гренадер.
– Значит, дело кончено, – промолвил сержант. Он распростер обе руки над головами матери и детей и прибавил: – Вот дети батальона Красной Шапки.
– Три головки под одной шапкой! – воскликнула маркитантка и даже подпрыгнула от радости. Потом она зарыдала, принялась целовать бедную вдову и сказала ей:
– А какая плутовская рожица у твоей малютки!
– Да здравствует республика! – повторили солдаты.
А сержант, обращаясь к матери, промолвил:
– Так идите же с нами, сударыня!
Книга вторая. Корвет[9] «Клэймор»
I. Англия схватилась с Францией
Весной 1793 года, в то время, как Франция, подвергшаяся одновременному нападению со всех сторон, развлекалась трагическим падением жирондистов[10], в Ламаншском архипелаге происходило следующее:
1 июня вечером, приблизительно за час до захода солнца, в туманную погоду, удобную для бегства именно потому, что она опасна для плавания, в небольшой, пустынной бухте Боннюи поднимал паруса какой-то корвет. Экипаж этого судна состоял из французов, хотя само оно и входило в состав крейсировавшей около этого берега английской флотилии и как бы стояло на часах у западной оконечности острова. Английской флотилией командовал Латур д’Овернь, потомок герцогов Бульонских, по приказу которого и был отправлен сюда корвет для выполнения важного и срочного поручения.
Корвет этот, названный при закладке «Клэймор», с виду напоминал транспортное судно, но, в сущности, был военным кораблем. Действительно, на первый взгляд он казался тяжеловесным коммерческим судном; но это только на первый взгляд. При постройке его имелись в виду две цели: боевая мощь и внешняя обманчивость; в случае необходимости он должен был сражаться, в остальное время – вводить в обман. Ввиду возложенного на судно в эту ночь поручения, на второй палубе, вместо груза, были поставлены тридцать орудий большого калибра, так называемых карронад[11]. Но эти пушки – потому ли что ожидалась буря, или для того, чтобы придать судну совершенно мирный вид, – были принайтовлены, или, что то же самое, прочно прикреплены тройными цепями, с приставленными к закрытым люкам жерлами. Снаружи ничего нельзя было заметить; пушечные порты были наглухо закрыты ставнями; корвет точно надел на себя маску. Карронады стояли на лафетах старинного образца. Обычно на корветах орудия располагаются только на верхней палубе; этот же, предназначенный и для нападения врасплох, имел верхнюю палубу невооруженной, а все его орудия, как уже сказано, были установлены на нижней палубе. «Клэймор» представлял собою массивное, довольно неуклюжее судно, но тем не менее обладал хорошим ходом. Едва ли во всем английском флоте можно было встретить более прочный корпус, а в морском сражении это судно постояло бы за себя не хуже фрегата[12], хотя вместо бизань-мачты[13] у него была всего небольшая жердь, с косым грот-контр-бизанем. Его руль, очень редкой конструкции, изготовленный на саутгемптонской верфи, имел короткие тимберсы[14] и обошелся в 50 фунтов стерлингов.
Экипаж корвета состоял исключительно из французов – офицеров-эмигрантов и матросов-дезертиров. Все люди были подобраны весьма тщательно: они были хорошие моряки, храбрые солдаты, убежденные роялисты; все были тройными фанатиками: своего судна, своего меча и своего монарха. Кроме собственно экипажа судна, на корвете находился еще полубатальон морской пехоты, на случай высадки десанта.