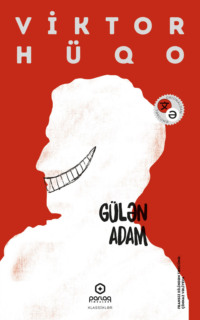полная версия
полная версияДевяносто третий год
В это утро, за час перед тем, как Михалина Флешар, пройдя другой стороной леса, зашла в первое селение, где ей довелось увидеть мрачное шествие гильотины, в лесной чаще, через которую проходит Жавенейская дорога, сразу за мостом, через реку Куэнон, собралась толпа людей, прятавшихся в густом кустарнике. Люди эти были крестьянами, одетыми в кожаные плащи, вроде тех, какие носили короли Бретани в VI столетии и которые продолжали носить крестьяне в XVIII. Они были вооружены, одни – ружьями, другие – мотыгами. Те, у которых были мотыги, только что сложили на небольшой лужайке костер из сухого хвороста и бревен, который оставалось только поджечь. Те же, у которых были ружья, расположились по обе стороны дороги и затаились. Если бы кто-нибудь мог разглядеть этих людей сквозь чащу листьев, то он увидел бы, что все они держали указательный палец правой руки у взведенных курков, направив дула своих ружей из-за ветвей на дорогу. Очевидно было, что они засели в засаду. Среди утренних сумерек раздавались отрывочные, произносимые вполголоса слова:
– Уверен ли ты в этом?
– Да, так говорят.
– Она сейчас проедет?
– Говорят, что она уже недалеко.
– Ну, так пускай же она здесь и остается.
– Нужно ее сжечь.
– Нас именно для этого и собралось здесь три деревни.
– А как же с конвоем?
– Его перебьют.
– Да верно ли, что она проедет именно по этой дороге?
– Говорят.
– Значит, ее везут из Витрэ?
– Конечно.
– А раньше слышно было, что ее повезут из Фужера.
– Из Фужера или из Витрэ – один черт.
– Это верно.
– Ну и пускай себе едет обратно.
– Конечно.
– В Паринье ее везут, что ли?
– Кажется.
– Ну, туда она не попадет.
– Ни за что!
– Тише, тише!
Действительно, нелишне было помолчать, так как начинало уже светать. Вдруг сидевшие в засаде люди затаили дыхание: послышались стук колес и конский топот. Они взглянули из-за ветвей и увидели на дороге длинную повозку, на которой что-то лежало, и конный конвой. Все это направлялось в их сторону.
– Вот она! – проговорил человек, которого можно было принять за предводителя отряда.
– Да, – подтвердил другой, – да еще с конвоем.
– В конвое всего двенадцать человек; а говорили, что их будет двадцать.
– Двенадцать или двадцать – все равно; мы всех их перебьем.
– Нужно подождать, пока они подъедут поближе.
Немного погодя повозка и конвой показались из-за поворота дороги.
– Да здравствует король! – крикнул один из крестьян, и раздался залп из ста ружей.
Когда дым рассеялся, конвоя уже не оказалось: семь всадников были убиты, остальные пятеро обратились в бегство. Крестьяне подбежали к повозке.
– Глядите-ка! – воскликнул предводитель. – Это вовсе не гильотина, а лестница.
Действительно, на повозке не оказалось ничего, кроме лестницы. Обе лошади были ранены; возчик был убит.
– Впрочем, все равно, – продолжал предводитель, – лестница, которую везут под конвоем, это нечто подозрительное. Везли ее по направлению к Паринье. Очевидно, она предназначалась для того, чтобы по ней взобраться на Тургскую башню.
– Нужно ее сжечь! – воскликнули крестьяне, что и было немедленно выполнено.
Что касается той зловещей повозки, которую они в действительности поджидали, то она направилась по другой дороге и была уже двумя милями дальше, в том самом селении, в котором видела ее Михалина Флешар.
V. Vox in deserto[392]
Михалина Флешар, расставшись с детьми, которым она отдала свою лепешку, пустилась наугад дальше, идя по лесной тропинке. Так как крестьянка не захотела указать дорогу, то ей приходилось самой отыскивать ее. Она то присаживалась, то вставала, то снова присаживалась. Она чувствовала, как усталость переходила из мускулов в кости. Такую усталость чувствуют рабы; и она, действительно, была рабой, – рабой своего материнского чувства. Ей во что бы то ни стало нужно было найти своих детей; каждая потерянная минута могла быть для них роковой. Тот, на ком лежит такая обязанность, не имеет больше никаких прав; она не признавала за собою права на отдых. Но она дошла до такой степени усталости, когда после каждого лишнего шага можно задать вопрос: в состоянии ли будет человек сделать следующий? Она была на ногах с самого утра, не встретив на своем пути ни селения, ни даже отдельного дома. Она сначала пошла по одной тропинке, затем свернула на другую, и кончилось тем, что она окончательно заблудилась в гуще леса. Приближалась ли она к цели? Достигла ли она конца своих страданий? Она шла по тернистому пути и чувствовала то изнеможение сил, которое чувствует обычно путник, делая последний переход. Неужели она упадет на дороге и больше не сможет подняться? Минутами ей казалось, что она не в состоянии будет сделать и шага вперед. В лесу было темно, тропинки исчезали под травою, и она не знала, что ей делать. Она стала кричать, – никто не отзывался. Ей оставалась одна только надежда – на Бога.
Она осмотрелась кругом и увидела сквозь ветви просвет, направилась в ту сторону и внезапно очутилась на открытом пространстве. Перед ней была долина или, вернее сказать, узкая ложбина, на дне которой струился по камням ручеек. При виде воды она вспомнила, что ее давно уже томит жажда. Она подошла к ручью, нагнулась и напилась. Воспользовавшись тем, что для того, чтобы напиться, ей пришлось стать на колени, она горячо помолилась.
Приподнявшись, она постаралась ориентироваться и перешагнула через ручей. За ложбинкой тянулась насколько хватал глаз возвышенность, покрытая низкорослым кустарником, которая от самого ручейка медленно поднималась и терялась в дали. Если лес представлял собой уединенное место, то возвышенность была пустыней. В лесу, по крайней мере, можно было надеяться, что из-за каждого куста может показаться человек; на этой же возвышенности сразу было видно, что здесь никого нет. Только несколько птиц, как будто от чего-то спасавшихся, летали над вереском.
Тогда, чувствуя, как ноги ее подкашиваются, и придя в какое-то исступление, несчастная мать обратилась к пустынной местности с воплем отчаяния:
– Эй, кто тут?!
Она стала ждать ответа, и ответ не замедлил последовать. Раздался глухой, точно выходящий из глубины, голос, который несколько раз повторило эхо; но это было похоже не столько на человеческий голос, сколько на громовой удар или на пушечный выстрел. Матери, однако, показалось, будто этот голос ей ответил: «Да». Затем снова воцарилась мертвая тишина.
Михалина ободрилась и оживилась. Значит, все-таки вблизи кто-то есть, значит, она здесь не одна. Она только что напилась воды и помолилась; и то и другое ее подкрепило, и она принялась взбираться на плато с той стороны, откуда она услышала отдаленный громкий голос.
Вдруг на горизонте появилась высокая башня, одиноко возвышавшаяся среди равнины и позолоченная лучами заходящего солнца. Но до башни было еще больше лье. Позади нее, сквозь вечернюю мглу, чернел Фужерский лес. Михалине показалось, что звук, услышанный ею, раздался со стороны башни.
Михалина Флешар дошла до вершины плато. У ног ее расстилалась равнина. Она пошла по направлению к башне.
VI. Положение вещей
Решительный момент наступил. Неумолимость одержала верх над беспощадностью. Лантенак был в руках Симурдэна. Берлога старого мятежника была обложена со всех сторон. И было очевидно, что ему из нее не выбраться. Симурдэн настаивал на том, чтобы маркиз был обезглавлен тут же на месте, в своем имении, так сказать, в своем доме, для того чтобы старое феодальное жилище стало как бы свидетелем того, как скатится голова его феодала, и чтобы пример этот остался у всех надолго в памяти. Поэтому-то он и послал в Фужер за гильотиной, перевозку которой в Тург случайно увидела Михалина Флешар.
Убить Лантенака, по его мнению, означало убить Вандею; а убить Вандею – значило спасти Францию. Симурдэн не колебался. Для этого человека ничего не стоило быть жестоким ради исполнения того, что он считал своим долгом.
Маркиз погиб, – в этом отношении Симурдэн был спокоен; но его беспокоило нечто другое. Борьба, без сомнения, будет отчаянная. Говэн будет распоряжаться ею и, быть может, пожелает принять в ней личное участие. Этот молодой начальник был прежде всего солдат и готов был броситься в рукопашную схватку. Как бы не убили его духовного сына, единственное существо в мире, к которому он питал нежную любовь. Правда, до сих пор Говэну благоприятствовало счастье, но и удача порой устает. Симурдэн нервничал. По странной иронии судьбы он очутился между двух Говэнов, из которых одному он желал смерти, другому – долголетия.
Пушечный выстрел, который разбудил Жоржетту в ее кроватке и вызвал ее мать из лесного уединения, привел не только к этим результатам. Вследствие ли простой случайности или же благодаря искусно взятому прицелу, ядро, которое должно было служить лишь простым сигналом, попало точно в железные полосы, маскировавшие большую бойницу нижнего этажа башни, погнуло и наполовину сорвало их. Осажденные не имели времени исправить это повреждение.
Осажденные только хвастались, заявив, будто у них очень много боевых припасов; в действительности же их было очень мало. Вообще их положение было гораздо более тяжелым, чем даже могли предположить осаждающие. Если бы у них было достаточно пороха, то они могли бы взорвать башню, как только в нее проникли бы осаждающие, конечно, взорвав вместе с ними и самих себя; они и мечтали об этом, но их запасы пороха были ничтожны; их едва хватало на тридцать выстрелов на человека. Правда, ружей, мушкетов и пистолетов было достаточно, но было мало патронов. Они зарядили все имевшееся в их распоряжении огнестрельное оружие для того, чтоб иметь возможность поддерживать непрерывный огонь; но на сколько времени его могло хватить? Приходилось в одно и то же время и поддерживать огонь, и беречь запасы. Вот в чем заключалась главная их беда. К счастью – жалкое счастье! – можно было предвидеть, что борьба предстоит преимущественно рукопашная, лицом к лицу, на саблях и на кинжалах, – борьба, в которой придется больше рубить и колоть, чем стрелять; это была единственная их надежда.
Впрочем, башня казалась неприступной. В нижней зале, на которую выходил пролом в стене башни, была баррикада, искусно сооруженная Лантенаком и загораживавшая вход. Позади баррикады стоял длинный стол, на котором навалены были заряженные ружья, карабины, мушкеты, сабли, кинжалы и топоры. Не имея возможности воспользоваться для взрыва башни склепом, соединявшимся с нижней залой, маркиз велел наглухо закрыть дверь в него. Над нижней залой была круглая комната второго этажа, в которую, как уже сказано выше, можно было попасть только по очень узкой винтовой лестнице; в этой комнате, как и в нижней зале, стоял большой стол, заваленный всякого рода оружием, так что к нему оставалось только протянуть руку. Она была освещена большой бойницей, с которой ядро только что сорвало решетку; из этой комнаты лестница вела в круглую комнату следующего этажа, в которой была железная дверь, выходившая на мостовое здание. Эта комната называлась и «комнатой с железною дверью» и «зеркальной комнатой», так как по стенам ее, на ржавых гвоздях, висело множество маленьких зеркал, – довольно странное украшение в этой суровой обстановке. Так как продолжительная оборона была немыслима, то зеркальный зал являлся тем, что Манессон Маллет, в своем трактате об оборонительных сооружениях, называет «последним убежищем, в котором осажденные заключают капитуляцию». Нужно было стараться во что бы то ни стало не допустить сюда осаждающих.
И эта круглая комната освещалась бойницами; кроме того, здесь горел факел, вставленный в железный подфакельник, вроде того, который был внизу. Этот факел был зажжен Иманусом, положившим возле самого факела фитиль, пропитанный серой. Мрачные предосторожности!
В глубине нижнего зала, на длинных подмостках, расставлена была еда, напоминавшая собой гомерический пир: большие блюда с рисом, ржаной кашей, телячьим рагу, лепешками из разваренных в воде муки и овощей, кувшины с яблочным вином. Всякий мог здесь есть и пить, сколько его душе было угодно.
Пушечный выстрел заставил всех встрепенуться. Оставалось всего полчаса до начала приступа.
Иманус с вышки башни наблюдал за приближением осаждающих. Лантенак строго запретил стрелять раньше времени, прежде чем атакующие подойдут на самое близкое расстояние.
– Их четыре тысячи пятьсот человек, – сказал он. – Убивать их извне бесполезно. Бейте их только тогда, когда они войдут. Внутри башни равенство сил восстановится, – и, засмеявшись, он добавил: – Равенство и Братство!
Решено было, что, когда неприятель двинется в атаку, Иманус предупредит о том, протрубив в рог. Все, в глубоком молчании, разместившись за баррикадой или на ступеньках лестницы, ждали, держа в одной руке ружье, а в другой – четки.
Вот как обстояли дела на тот момент. Нападающим предстояло ворваться в пролом, овладеть сначала баррикадой, затем тремя находящимися одна над другою комнатами и захватить, ступенька за ступенькой, под градом пуль, две узкие винтовые лестницы. Осажденным предстояло только одно – умереть.
VII. Приготовления
Говэн, со своей стороны, готовился к штурму. Он давал последние указания Симурдэну, который, как помнит читатель, должен был, не принимая непосредственного участия в деле, охранять холм, и Гешану, который должен был с большею частью отряда оставаться и наблюдать у опушки леса. Было условлено, что ни нижняя батарея у опушки леса ни верхняя батарея на плато не будут стрелять, если только не будет вылазки или попытки к прорыву. Говэн принял личное командование над штурмовой колонной. Это-то обстоятельство и смущало Симурдэна.
Солнце только что зашло. Башня на открытом месте похожа на корабль в открытом море. Их приходится атаковать одинаковым образом; это скорее абордаж, чем штурм. Пушки здесь становятся бесполезными. Что проку обстреливать стены в пятнадцать футов толщиной? Отверстие в борту, в которое одни стараются проникнуть и которое другие всячески стараются загородить, топоры, ножи, пистолеты, кулаки, зубы – вот что такое этого рода бой.
Говэн понимал, что не было иного пути для того, чтобы овладеть башней. Ничего не может быть убийственнее нападения, в котором противники сходятся лицом к лицу. Ему знакомо было строение башни, так как он бывал в ней ребенком. Он впал в глубокую задумчивость.
В нескольких шагах от него его помощник Гешан, с подзорной трубой в руке, смотрел вдаль, по направлению к Паринье. Вдруг он воскликнул:
– А, наконец-то!
– Что такое, Гешан? – спросил Говэн, выведенный этим восклицанием из своей задумчивости.
– А вот, господин полковник, везут спасательную лестницу.
– Как, разве она еще не здесь?
– Нет, господин полковник, и я начал уже тревожиться. Нарочный, которого я посылал в Жавенэ, вернулся и сообщил, что он нашел у жавенейских плотников лестницу желаемых размеров, что он реквизировал ее, велел погрузить на телегу, потребовал конвой в двенадцать всадников и что он сам видел, как телега, конвой и лестница двинулись по дороге в Паринье, после чего он прискакал сюда.
– Да, да, знаю; и он добавил еще, что так как повозка запряжена двумя здоровыми лошадьми и двинулась в путь во втором часу утра, то она может быть здесь еще до заката солнца. Все это мне известно. Ну и что же?
– Ну и вот, господин полковник, солнце уже зашло, а повозки с лестницей все еще не видать.
– Неужели? Однако нам пора начинать приступ. Данный нами срок уже истек. Если мы еще промедлим, осажденные подумают, что мы трусим.
– Ну, что же, господин полковник, поведем приступ!
– Но как же мы будем штурмовать без лестницы?
– Отчего без лестницы? С лестницей. Вы только что слышали, как я воскликнул: «А, наконец-то!» Видя, что повозка не едет, я взял подзорную трубу и стал смотреть на дорогу из Паринье в Ла-Тург; к великому моему удовольствию, господин полковник, я увидел на дороге повозку с лестницей и конвой. Вон она спускается с холма. Вы сами можете увидеть ее.
– Действительно, это она, – проговорил Говэн, взяв у Гешана подзорную трубу и посмотрев в нее. – Впрочем, уже смеркается и нельзя хорошо ее рассмотреть. Но вот и конвой; ну, конечно, это она! Только конвой кажется мне более многочисленным, чем тот, который вы отправили, Гешан.
– Да, и мне самому так показалось.
– Они теперь приблизительно в четверти лье отсюда.
– Через четверть часа лестница будет здесь, господин полковник. Значит, можно начинать штурм.
То, что они увидели, была действительно повозка, но только не та, которую они ждали.
Говэн, обернувшись, увидел позади себя сержанта Радуба, стоявшего вытянувшись в струнку, с рукою под козырек, по всем правилам военной дисциплины.
– Что вам нужно, сержант Радуб? – спросил он.
– Гражданин полковник, мы, команда батальона Красной Шапки, желали бы просить вас об одной милости.
– О какой милости?
– Не будете ли вы, господин полковник, так добры, чтобы велеть нас убить?
– Что такое? – спросил Говэн. – Убить? Зачем убить?
– Вот видите ли, господин полковник, после Дольского дела вы бережете нас. А нас еще двенадцать человек. Это для нас очень обидно.
– Вы будете в резерве.
– Мы предпочли бы находиться в авангарде.
– Но я вас берегу для решительного удара. Вы мне еще понадобитесь. Вы ведь тоже входите в состав штурмовой колонны.
– Да, но только сзади; а парижане привыкли и имеют право идти впереди всех.
– Хорошо, я подумаю об этом, сержант Радуб.
– Только сделайте это сегодня, господин полковник. Такой удобный случай не скоро представится. Дело, очевидно, будет жаркое. Можно будет здорово обжечь себе пальцы о Тургскую башню. Мы просим, как милости, чтобы нас послали в первых рядах.
Тут сержант остановился, покрутил себе ус и продолжал дрогнувшим голосом:
– И затем, вот видите ли, господин полковник, в этой башне заперты наши ребята; у нас там трое детей, то есть детей нашего батальона. Все эти Грибульи, Гуж ле Брюаны, Иманусы, и как их там зовут, этих разбойников, угрожают нашим детям; слышите ли, господин полковник, нашим малюткам! Хотя бы земля разверзлась под нашими ногами, мы не допустим, чтобы с ними случилось какое-либо несчастие. Слышите, господин полковник, мы этого не допустим! Я воспользовался недавним перемирием, прокрался к мосту и посмотрел на них в окошко. Оказалось, что они действительно там, эти херувимчики, я видел их собственными глазами и даже, этакий дурак, перепугал их. Я, сержант Радуб, клянусь всем, что есть святого, господин полковник, что, если падет хоть один волос с их маленьких головок, я этого так не оставлю. Да и весь наш батальон говорит: «Мы желаем, чтобы ребята наши были спасены или чтобы нас убили». Ведь имеем же мы на это право, черт побери! Да, чтобы нас всех убили! Счастливо оставаться, господин полковник!
Говэн протянул Радубу руку и проговорил:
– Вы – молодцы! Я назначаю вас в штурмовую колонну, но я разделю вас на две части: шесть человек я поставлю в авангард, для того чтобы колонна шла за вами, а шесть человек в арьергард, для того чтобы никто не отступал.
– А что же, господин полковник, я по-прежнему остаюсь начальником этих двенадцати человек?
– Конечно. А как же иначе?
– В таком случае благодарю вас, господин полковник. Значит, я буду в авангарде.
Радуб приложил руку к козырьку и возвратился к своему батальону.
Говэн посмотрел на часы, сказал несколько слов на ухо Гешану, и штурмовая колонна начала строиться.
VIII. Речь и рычание
Симурдэн, еще не ушедший на свой пост на плато и стоявший возле Говэна, приблизился к трубачу и сказал ему:
– Давай сигнал трубе на башне.
Рожок подал сигнал, труба с башни ответила. Затем рожок и труба еще раз обменялись сигналами.
– Что это значит? – обратился Говэн к Гешану. – Что нужно Симурдэну?
Тем временем Симурдэн приблизился к башне, размахивая белым платком.
– Эй, вы там, в башне, – крикнул он громким голосом, – знаете ли вы меня?
– Знаем, – ответил голос с башни. То был голос Имануса.
Затем между обоими этими голосами произошел следующий диалог:
– Я – комиссар Конвента.
– Неправда: ты бывший сельский поп из Паринье.
– Я – делегат Комитета общественного спасения, представитель закона.
– Неправда: ты бывший поп, ты расстрига.
– Я – Симурдэн, комиссар революционного правительства.
– Неправда: ты отступник, ты дьявол.
– Итак, вы меня знаете.
– Мы тебя ненавидим.
– Вы были бы рады, если бы я попал к вам в руки?
– Сколько нас тут есть, всего восемнадцать человек, мы все охотно отдали бы наши головы за твою.
– Ну, так слушайте же: я отдаюсь вам в руки.
– Милости просим, – раздалось с башни и затем послышался дикий взрыв хохота.
Внизу весь лагерь точно замер, прислушиваясь к этому диалогу.
– Но только с одним условием, – продолжал Симурдэн. – Слушайте.
– С каким же это условием? Говори!
– Вы меня ненавидите, а я вас люблю. Я – ваш брат.
– Да, такой же брат, каким Каин был Авелю, – раздался голос с башни.
Симурдэн продолжал со странной интонацией голоса, в одно и то же время и надменной и кроткой:
– Оскорбляйте меня, но выслушайте! Я пришел к вам парламентером. Да, вы – мои братья. Вы – темные, заблуждающиеся люди. Я – друг ваш. Я – свет, говорящий с тьмою. А свет – это братство. Да и к тому же, разве у нас всех не одна общая мать – родина? Ну, так слушайте же меня! Вы узнаете впоследствии, или это узнают ваши дети, или же внуки, что все, совершающееся ныне, совершается во исполнение законов, предписанных свыше. Неужели же в ожидании того времени, когда все умы, и даже ваши, поймут это, когда все страсти, и даже наши, улягутся, в ожидании того, когда прольется свет, – неужели же никто не сжалится над вашею темнотой? Я прихожу к вам, предлагая вам мою голову; даже больше – я протягиваю вам руку. Я прошу у вас, как милости, чтобы вы погубили меня для того, чтобы спастись самим. Я обладаю самыми обширными полномочиями и я говорю не просто так. Наступила решительная минута; я делаю последнюю попытку. Тот, кто говорит с вами, – гражданин, но этот гражданин в то же время и служитель Господень. Гражданин воюет с вами, но служитель Господень умоляет вас. Слушайте меня! У многих из вас есть жены и дети. Я выступаю защитником ваших жен и детей. Я выступаю защитником их против вас самих. О, братья…
– Ну, замолол поп! – воскликнул со смехом Иманус.
– Братья мои, – продолжал Симурдэн, – не доводите дело до крайности. Сейчас начнется резня. Многие из нас, которых вы теперь видите перед собою, уже не увидят завтра солнечного света: да, погибнут многие из наших, а вы – вы все погибнете. Пощадите самих себя. К чему без всякой пользы проливать столько крови? К чему убивать столько людей, когда достаточно убить двоих?
– Как двоих? – спросил Иманус. – Кого же это?
– Да, двоих – Лантенака и меня, – ответил Симурдэн, возвышая голос. – Здесь есть два лишних человека: Лантенак для нас, и я – для вас. Вот какое я вам делаю предложение, ручаясь вам за то, что, приняв его, вы все спасете вашу жизнь. Выдайте нам Лантенака и берите меня. Лантенак будет казнен на гильотине, а со мною вы сделаете, что вам будет угодно.
– Если бы ты попался к нам в руки, поп, – закричал Иманус, – мы бы зажарили тебя на медленном огне.
– Я и на это согласен, – ответил Симурдэн и продолжал: – Вы все заперты в башне и обречены на неминуемую гибель. Вы можете через час не только спасти свою жизнь, но и быть свободными. Я предлагаю вам спасение. Принимаете ли вы мое предложение?
– Ты не только негодяй, – закричал Иманус, – но ты еще и безумец! Чего тебе от нас надо? Кто тебя просил приходить разговаривать с нами? Чтобы мы выдали господина маркиза! Да чего тебе от него нужно?
– Головы его. А взамен того я предлагаю вам…
– Свою шкуру! Ибо мы содрали бы с тебя с живого шкуру, поп Симурдэн. Ну, так нет же! Твоя шкура не стоит его головы. Убирайся прочь!
– Еще раз подумайте. Наступает решительный момент.
В то время, пока происходил этот ужасный диалог между башней и лужайкой, стало уже темнеть. Лантенак молча слушал. Предводители, чувствуя свое превосходство, считают себя вправе быть эгоистами.
– Вы, нападающие на нас, – крикнул Иманус Симурдэну, – слушайте: мы уже объявили вам наши условия и мы от них не отступим. Принимайте их, иначе будет плохо. Согласны ли вы? Мы возвратим вам находящихся в наших руках троих детей, а вы выпустите нас всех из башни.
– Всех, за исключением одного только Лантенака, – ответил Симурдэн.
– Как, господина маркиза? Выдать господина маркиза! Никогда!
– Нам необходим Лантенак. Мы можем вступить в соглашение только на этом условии.