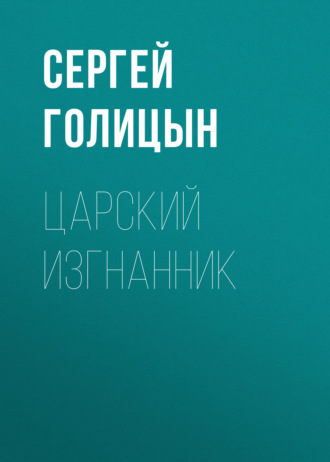 полная версия
полная версияЦарский изгнанник
До Ольмюца Серафима Ивановна имела дела только с банкирами еврейского происхождения, обращавшими больше внимания на цифры верящих писем, чем на их редакцию; и в Бродах, и во Львове они удовольствовались тем, что взяли с Серафимы Ивановны квитанции в выданных ей деньгах и означили эту выдачу на ее верящем письме.
Виланд же был честный и аккуратный немец, довольно словоохотливый и очень дороживший составленной им себе репутацией самой изящной учтивости и вместе с тем аккуратности, доходящей до педантизма.
– Что вам угодно, милостивая государыня, – спросил он по-немецки, выходя из своего кабинета навстречу посетительнице, – чем могу служить вам?
– Я бы желала взять в вашей конторе денег по кредитиву, – отвечала Серафима Ивановна по-французски.
– Кредитив ваш на мое имя? – спросил Виланд довольно чистым для немца французским языком.
– Нет, не на ваше, а на имя Лавуазье, в Париже.
– Позвольте посмотреть.
Серафима Ивановна вручила ему верящее письмо.
Виланд едва взглянул на него.
– Я знаю этот кредитив, – сказал он, – господин Лавуазье прислал мне с него копию… Сколько вам угодно взять в моей конторе, милостивая государыня?
– Да червонцев двадцать пять или тридцать. До Вены мне тридцати червонцев будет, я думаю, довольно; я рассчитываю быть в Вене послезавтра.
Виланд подумал.
– Извольте, милостивая государыня, – сказал он, – тридцать червонцев я вам могу выдать с удовольствием, благоволите подписать эту квитанцию.
– А если б я пожелала больше? – спросила Серафима Ивановна, нервы которой начинали сдавать от изящной учтивости банкира, – если б я у вас попросила не тридцать, а триста, триста тысяч червонцев, разве бы вы мне их не выдали?
– То есть изволите ли видеть, милостивая государыня, – хладнокровно отвечал Виланд, – и да и нет.
– Я вас не понимаю, господин банкир.
– Прикажете ли говорить с вами откровенно, милостивая государыня?
– Сделайте одолжение, милостивый государь.
– Отчего вы не изволили привезти с собой молодого князя Михаила Голицына, вверенного вашему попечению?
– Какой вопрос! Он остался в гостинице, в гостинице «Вена», «Штат Вин», как здесь называют ее… Да не все ли вам равно, где он? Разве кредитив написан не на мое имя?
– Опять вопрос щекотливый, очень щекотливый, милостивая государыня, и я опять должен отвечать вам на него: и да и нет; кредитив, если вам угодно, написан на ваше имя, но благоволите обратить внимание на выражения, в которых он написан: в коммерции, как и в дипломатии, не употребляется ни одного слова лишнего, и хороший банкир, точно так же как и хороший посланник, должен уметь читать между строчками; позвольте еще раз ваш кредитив. В нем, изволите ли видеть, сказано: «Госпоже Квашниной, которая взяла на себя попечение о моем внуке, князе Михаиле Голицыне, с ней вместе путешествующем… прошу господина Лавуазье и корреспондентов его, как во Франции, так и за границей…» Изволите ли видеть, как ясно сказано… «Выдавать мадам Квашниной…» и так далее.
– Так что ж из этого следует? – спросила Серафима Ивановна. – Мне нечего перечитывать этот кредитив, я его сто раз читала и знаю наизусть.
– А из этого следует то, что, согласитесь сами, милостивая государыня, – господину Лавуазье и его корреспондентам нет никакой надобности знать, что молодой князь Михаил Голицын путешествует по Европе с мадам Квашниной и что дед его желает, чтоб он продолжал свое воспитание в Париже. С другой стороны, сколько я знаю, первый министр России не такой человек, чтобы пустословить в деловом письме.
– Что ж вы читаете между строчками этого делового письма, господин банкир?
– Читаю, – вы изволили приказать мне говорить с вами откровенно, – что кредитив написан не столько на ваше имя, сколько на имя вашего племянника, хотя он и несовершеннолетний. И это еще более подтверждается концом письма, где сказано, что по помещении князя Михаила…
– Знаю, читала… Следовательно, без позволения князя Михаила я не могу получить деньги у банкиров?
– О его позволении в кредитиве ничего не сказано, но присутствие его при вас обусловлено ясно; поэтому я мог выдать тридцать червонцев по доверию к вашему честному виду, как говорят французы, но если б дело шло о более значительной сумме, то я должен бы был попросить у вас позволения поговорить хоть минутку с вашим племянником.
– Вот дурак-то! – сказала Серафима Ивановна, садясь в коляску. – Чего-чего не наговорил он мне! И не дорого оценил он мою внешность: тридцать червонцев… Тьфу, болван! Хуже всякого жида!
Пока Серафима Ивановна была у Виланда и покупала потом шубку и кое-какие съестные припасы, Миша, Анисья и Чальдини, подсевший к ним вскоре после отъезда Серафимы Ивановны, вступали в очень важный заговор против власти квашнинской помещицы за границей.
Анисья очень удивилась, узнав, что во Франции если она пожелает, то может отойти от Серафимы Ивановны и получить паспорт на свободное жительство где захочет.
– Как, без всякого выкупа! – вскрикнула она. – Неужели во Франции нет крепостных! Вот благословенная-то страна!
– Крепостные-то во Франции есть, – отвечал Чальдини, – и они, может быть, еще несчастливее ваших русских; но иностранные крепостные, как только переезжают границу Франции, могут требовать свободы, поступают под покровительство законов и по истечении трех лет получают права гражданства. Даже здесь, в Римской империи, если Анисья хочет, то может хоть нынче же и почти без хлопот получить паспорт из ратуши: закон положительный…
– Куда я пойду, батюшка доктор? Да она тогда мою Анюту до смерти засечет…
Переводя ответ Анисьи, Миша с удивлением спросил у доктора, отчего если Анисья провинится перед его теткой, то за это будет наказана Анюта.
– Вы еще не знаете, на что ваша тетка способна, – отвечал Чальдини, – не с тем говорю я вам это, чтоб еще больше вооружить вас против нее, а с тем, чтобы предостеречь вас: помилуй Бог, если вы хоть одним словом проболтаетесь, хоть одним жестом выдадите вашей тетке, что между нами было какое-нибудь совещание; вам, разумеется, ничего не будет; и Анисью мы отстоим; но бедная дочь Анисьи тогда за все поплатится; а лучше мы примем другие меры, и до поры до времени о нынешнем нашем разговоре ни слова. Даже между собой, в уроках ваших, не намекайте о нем… Теперь, пока нет тетки, спросите у Анисьи, продаются ли у них в Квашнине крепостные девушки отдельно от семейств.
– Замуж к соседям продавались девки, – отвечала Анисья, – за девку по двадцати рублевиков и больше давали, смотря какая девка; а так не слыхать, чтоб продавали, да и покупать некому.
– А кроме дочери, есть у Анисьи какая-нибудь родня в Квашнине? – спросил Чальдини у Миши.
– Никого нет у нее, кроме деверя, говорит, – отвечал Миша, – да и тот, кажется, в ратники назначен.
– Еще спросите у нее, сколько лет ее Анюте.
– Да вот, – сказала Анисья, – когда мой муж помер, ей, кажись, одиннадцатый годок пошел; на вид-то она мала, а годов ей много: в Устретенье будущее, значит, ей двенадцать лет минет; она у меня, я помню, в ночь на Устретенье родилась…
– Ну и basta! – сказал Чальдини, вставая и уходя из комнаты. – Помните же условие: ни слова, ни намека обо всем этом.
По уходе Чальдини Миша счел долгом сделать строгий выговор своей ученице.
– Какая ты странная, Анисья, – сказал он ей очень серьезным тоном, – я тебя учу-учу, а ты меня при людях срамишь. Вот ты уже почти и читать выучилась, а говорить все не умеешь; все как-то по-деревенски говоришь: что за Устретенье?! Такого и праздника нет, скажи, Сретение.
– Ах ты мой голубчик, милый какой! – сказала Анисья. – Все буду говорить по-твоему, прикажи только. Да не гляди на меня такими сердитыми глазищами! Ух! Словно съесть хочет! А вот я не боюсь!
Серафима Ивановна возвратилась очень усталая и очень не в духе. Шубку ей удалось купить хорошую и довольно сходно, провизией она тоже запаслась и лучше и дешевле, чем думала, так что хоть до самой Вены ни разу не останавливайся в гостиницах; но разговор с Виландом не выходил у нее из головы.
«Что может означать, – думала она, – что князь Василий Васильевич пишет обо мне письма, которые банкиры читают между строчками? Нет, должно быть, Виланд соврал: все эти фразы в письме князя для того только, чтобы слог не казался слишком сухим, слишком коммерческим. Если б князь не доверял мне, то не отпустил бы со мной Миши. Это очевидно… уж не шутка ли это опять князя Алексея Васильевича? А туда же, когда-то влюбленным прикидывался! Да нет, его в Квашнине не было, а кредитив в Квашнине 9 августа написан… Все-таки же что-то не чисто, не знаешь, что и думать… Напишу Машерке, она все разузнает…»
От Ольмюца до Вены (двадцать семь миль) ехали почти без остановки; остановились только один раз – в плохой деревушке Штокерау, в десяти милях от Вены. Остановились в ней 31 августа в одиннадцать часов вечера, для того чтобы встретить Новый, 1689 год. У Серафимы Ивановны было убеждение, что Новый год надо непременно встретить за ужином и за бокалом вина для того, чтобы весь год жилось спокойно и весело.
После ужина отправились дальше, ехали всю ночь, и в девять часов утра, 1 (11) сентября[61], в то самое время как в Москве князь Василий Васильевич подъезжал к Красному крыльцу дворца царевны Софии, дормез его, по указанию его внука, остановился перед крыльцом лучшей венской гостиницы «Город Лондон».
В Вене Чальдини получил несколько писем, в числе коих два от доктора Фишера, лечившего князя Василия Васильевича в Медведкове. Первым из этих писем Фишер уведомлял своего товарища, что его пациент, пролежав семьдесят пять часов без чувств, только что пришел в память, а вторым от 20 (30) августа, что с больным был кризис, после которого он, Фишер, может надеяться, но ручаться еще не смеет, что с помощью знаменитых чальдиновских порошков он скоро поднимет больного на ноги.
Из Флоренции писали Чальдини, что дело, по которому требовалось его присутствие к концу сентября, отсрочено до ноября и что если он желает прокатиться по Германии и даже по Франции, то успеет накататься вволю.
О болезни князя Василия Васильевича Чальдини не сообщил ни Мише, ни Серафиме Ивановне; первому – чтобы не огорчить его, а второй – чтобы она, как-нибудь сгоряча, не проболталась Мише. Сам же он был почти уверен в благополучном исходе болезни князя Василия Васильевича, которого, – как уже сказано было, – в продолжение пятнадцати лет ежегодно повещало воспаление в боку.
На другой день приезда в Вену Серафима Ивановна отправилась вместе с племянником к банкиру, от которого получила сто суверенов (около шестисот рублей). Мише давно уже нечем было поощрять свою ученицу. Он подождал до вечера, надеясь, что тетка вспомнит о долге, и обещая себе, что если до семи часов она не вспомнит, то в семь часов он как-нибудь намекнет ей. Но прошло и семь, и восемь, и десять часов. Сели ужинать, а Миша все молчал и краснел, придумывая, какой бы ему сделать намек поделикатнее. Наконец он придумал.
– А знаешь ли, тетя, – сказал он, – Анисья давеча не так хорошо свой урок знала, как прежде.
– Я тебе всегда говорила, – отвечала Серафима Ивановна, – охота тебе с дурой возиться! Дурой была, дурой и останется. Плюнь на эти пустяки, братец. Право, скучно слушать, как она, словно попугай какой, по сто раз сряду твердит одно и то же, ну, поучил немножко, и довольно. Займись теперь чем-нибудь другим.
– Нет, тетя, уж ты позволила… я совсем не то говорю… я не говорю, что она дура… у нее, напротив, память очень хорошая. Но… знаешь ли, кабы я купил конфет или хоть орехов, то она училась бы еще лучше. Дедушка и папа всегда давали мне что-нибудь, когда я хорошо знал урок: или игрушку, или лакомство какое…
– То ты, а то Аниська. Ты не должен забывать этого, Миша, а коль она забудет, так я ей, дуре, напомню…
– Нет, тетя, пожалуйста…
– Учить ее я тебе не запрещаю; ну и учи ее, сколько хочешь, а пичкать ее конфетами все-таки же незачем. Нет у меня бешеных денег для Аниськи!
Миша с унылым лицом сообщил Чальдини, в каком он находится ужасном положении. Чальдини опять предложил ему несколько гульденов; но, видя смущение ребенка, серьезно боявшегося разорить доброго и обязательного доктора, любуясь этим милым смущением и не желая притуплять это чувство преувеличенной деликатности, Чальдини не настаивал на своем предложении.
– Это, разумеется, очень хорошо, – сказал он Мише, – что вы с детства привыкаете бояться долгов, хотя я уже говорил вам, вы бы меня нимало не стеснили, взяв у меня что вам нужно; но чего ж вы так огорчаетесь? Я уверен, что дорогая тетка завтра же отдаст вам ваши золотые.
– Хоть бы десять гульденов дала, – ответил Миша, – мне покуда и того довольно.
На следующий день перед завтраком Чальдини попросил у Серафимы Ивановны позволения взять с собой Мишу в кондитерскую.
– Да ведь Миша собирается учить Анисью, – отвечала Серафима Ивановна.
– Да, – прибавил Миша, очень покраснев, – я лучше останусь дома…
– Не учить l’Anissia, – возразил Чальдини Серафиме Ивановне, – а у Миши нет деньги для цукерни. Вчера я предлагал ему занять у меня и говорил, что напишу дедушке, который с первой же почтой вышлет денег на его маленькие расходы, но он и слышать не хочет: боится стеснить меня.
– Что он говорит? – спросила тетка.
Миша, краснея все больше и больше, перевел тетке предложение доктора.
– Что тебе одолжаться им? – сказала Серафима Ивановна. – И без него обойдемся, ты бы мне лучше сказал, ведь у меня есть твои деньги; я у тебя, кажется, семь золотых взяла?
– Нет, тетя, всего шесть, и из них один, Людовик Одиннадцатый, был твой.
– Ну это все равно, вот твои золотые. Видишь ли, вместо шести больших я тебе пятнадцать суверенов даю: нечего из-за таких пустяков дедушку беспокоить. Вот тебе…
Серафима Ивановна отсчитала пятнадцать суверенов и дала их Мише.
– Можешь идти погулять с доктором, – прибавила она.
Подобные превращения Серафимы Ивановны все больше и больше убеждали Мишу в том, какое магическое влияние его дедушка имел на нее, даже заочно. Он иногда и употребил бы это влияние во зло, как некогда употребил во зло ограничение над ним власти матери, но Серафима Ивановна не давала ему ни малейшего повода постращать ее дедушкой: чего бы ни пожелал Миша, все исполнялось беспрекословно – прочтет ли он проездом через какой-нибудь город афишку о концерте или о представлении фокусника, тетка, видя его желание, предлагает ему сходить на это представление с Чальдини, а иногда и сама пойдет с ним; начнет ли Миша, по возвращении от фокусника, повторять его фокусы тетке, она с большим вниманием смотрит на них, очень ими удивляется и хвалит племянника за необычайную ловкость.
Чем больше наши путешественники подвигались на Запад, тем погода становилась теплее. Солнце, как будто желая вознаградить землю за ежедневно сокращающиеся свои посещения, сияло все ярче и ярче. От Мюнхена до швейцарской границы Серафима Ивановна, по совету Чальдини, поехала на долгих, подрядив на обоюдно выгодных условиях обратного из Роршаха кучера с четверкой лошадей. Кучер взял с нее меньше половины обыкновенных прогонов с обязательством, кроме того, платить всякий вечер за ночлег и ужин своих четырех пассажиров. Миша заявил желание ехать на козлах, как фельдъегерь, и для большего сходства с фельдъегерем купил себе маленький рожок. Серафима Ивановна не только не отказала ему в этом, но даже в довершение сходства с фельдъегерем подарила ему желтую шапочку c козырьком и кантиком и маленький доломан, больше, впрочем, похожий на гусарскую, чем на фельдъегерскую куртку.
Сначала дудеть в свой рожок было для Миши большое удовольствие, но оно вскоре ему надоело; к тому же Чальдини заметил ему, что держать медь во рту вредно, да и трубить слишком часто совсем не нужно; что настоящие фельдъегеря, как, например, Григорьич, трубят только по ночам, при встрече с не скоро сторонящимися обозами. Теперь же они едут только днем, и обозы, безо всяких сигналов, разъезжаются при одном виде их огромного дормеза. Миша нашел себе другую забаву. Он уже давно заметил, что около дормеза бегают оборванные мальчишки, иные, – самые маленькие, – на ногах, другие, побольше, на руках, вертясь и не отставая от колес. Миша спросил у швейцарца-кучера, зачем они это делают.
– Так шалят, – отвечал кучер, – думают, им кинут милостыню из кареты; у нас в Швейцарии это строго запрещено: всякий мальчик должен с детства приучаться к работе.
– Я им кину монетку, можно? – спросил Миша у кучера, вынув флорин из своего кошелька и бросая его в толпу мальчиков.
Кучер хотел, но не успел остановить руку Миши; серебряная монета упала на землю; один мальчик проворно подхватил ее, и между всеми завязалась драка.
– Что это вы делаете, милый молодой барин, таких крупных монет не подают таким бродягам. Вот посмотрите, какая польза от вашей милостыни: у одного уже все лицо в крови…
На стоянке швейцарец, умевший говорить немножко по-итальянски, рассказал Чальдини, что случилось, и посоветовал отнять у Миши кошелек. Чальдини, заметивший, что на Мишу доброе слово действует вернее, чем бестолковое самоуправство, доказал ему математически, что если он будет бросать всякому мальчику по флорину, то у него не хватит денег и на один день; а что подать одному мальчику и не подать другим, вертящимся так же ловко и так же усердно, как и тот, – очень несправедливо. Миша понял это. Чальдини разменял несколько флоринов на посеребренную, новую, очень красивую, но очень мелкого достоинства мелочь и взял с Миши обещание, что он на всякой миле будет бросать мальчишкам не больше десяти монеток.
Серафима Ивановна, попросив, по обыкновению, перевести себе разговор Чальдини с Мишей, с большой готовностью согласилась на их сделку и тут же принялась подшивать кармашек под доломан Миши для откладывания в него монеток от станции до станции.
– Я не стану отсоветовать тебя делать добрые дела, Мишенька, – сказала она, – видишь ли, я даже сама подшиваю себе кармашек. Я знаю, что и дедушка твой любит подавать милостыню; да и Священное Писание велит; но ведь на всех тунеядцев не напасешься денег: иной попрошайничает, а сам богаче нас с тобой; другой прикинется слепым или хромым, возьмет твою милостыню да и бежит с ней в кабак; третий шляется от лени, думает: «Авось найду дурака, который подаст мне…» Так что ж им подавать? Что за охота в дураках быть?.. Оно, конечно, подавать милостыню похвально, и в Священном Писании сказано: «Милуяй нища, взаим дает Богови», но…
Если сделать краткое извлечение из длинной речи Серафимы Ивановны, то выйдет: милостыню подавать хорошо, сам Бог велел подавать милостыню, но все же лучше не подавать ее.
Подобные рассуждения встречались часто между умниками XVII столетия; не знаем наверное, реже ли они встречаются теперь. Филантропы-христиане нашего благочестивого столетия если б могли, то строили и учреждали школы, больницы и всевозможные богоугодные заведения; но нищим они подавать не намерены; не намерены они поощрять пьянство, праздность и разврат; они всегда готовы помочь истинно нуждающемуся человеку; но они не знают, точно ли голоден человек, протягивающий руку за куском хлеба; они боятся, как бы Бог строго не взыскал с них на Страшном суде за то, что они бросили какой-нибудь гривенник недостойному; они не верят истинной бедности, потому что бедность бывает иногда притворная.
К сожалению, нельзя не согласиться, что между нищими, как и между богомольцами, нередко попадаются ханжи. Как у тех, так и у других цель одна и та же: выманить все, что возможно от доверчивости добрых людей и от тщеславия гордых. Но ведь существование ханжей не мешает нам верить, что бывают и истинно благочестивые люди; нам часто попадались фальшивые ассигнации, заключили ль мы из этого, чтобы все ассигнации были фальшивые? Да и время ли правой руке, дающей подаяние так, чтоб о нем не знала левая, – время ли ей производить следствие, куда и на что истратится это подаяние? Не легче ли ей утешиться мыслью, что если из десяти брошенных ею гривенников девять пойдут в кабак, то десятый, может быть, послужит на покупку хлеба для голодающего семейства или хоть на несколько щепок для отогревания окоченевшего от стужи ребенка?
Кувыркание мальчиков и бросание им посеребренных трехкрейцерных монеток долго потешали Мишу; на первой же миле после заключенного с Чальдини условия отложенных в кармашек монеток не хватило, а подъезжая к станции, где назначен был обед, Миша заметил, что разбросал уже больше половины наменянной Чальдини мелочи. Он посоветовался с Анисьей и, по секрету, попросил ее сходить в лавочку и наменять там еще новеньких монеток. Анисья колебалась, но Миша обещал ее ни в каком случае не выдавать, и она принесла ему мелочи на полсуверена (5 флоринов).
«Что-то скажет Чальдини, узнав, что я не сдержал обещания! – думал Миша. – А как было сдержать его? Ведь сам он говорил, что несправедливо подать одному и отказать другому, когда этот другой так же ловко кувыркается, как и тот…»
Успокоенный этим рассуждением, Миша продолжал горстями бросать свои монетки и разменивать суверены один за другим.
Милях в пяти или шести от швейцарской границы, в маленьком городке Брегенце, остановились обедать; у Мишы оставалось всего с небольшим четыре суверена; таким образом, меньше чем в три дня своего фельдъегерства он истратил сто с лишним флоринов.
«Что мне делать! – думал Миша. – Тетка узнает и так раскричится, что беда, да и Чальдини за меня теперь не заступится, скажет, я обманул его, не захочет понять, что мне нельзя было сделать иначе. С Анисьей разве посоветоваться… еще ей, пожалуй, достанется…»
Так рассуждал Миша, уныло расхаживая взад и вперед перед закрытыми окнами постоялого двора, в котором в это время Серафима Ивановна одевалась перед обедом. Совершенно неожиданный случай вывел Мишу из неприятного положения.
Дойдя до края постоялого двора и повернувшись назад, он увидел перед собой высокого, лет тринадцати, мальчика, усердно вертящегося колесом. Миша узнал в нем одного из шалунов, бежавших за дормезом до самого въезда его в Брегенц, и полез в свой кармашек за монеткой. Кармашек оказался пустым.
– Хочешь? – спросил у него мальчик с южно-австрийским выговором, то есть очень плохим немецким языком. – Хочешь, я выучу тебя кувыркаться колесом?
Миша, может быть в надежде рассеять свое горе, согласился на предложение мальчика.
Урок начался. Первый опыт оказался не совсем удачным. Миша оперся руками о землю, мальчик за ноги перекувырнул его, но так неловко, что тот упал и, наверное, ушибся бы, если б мальчик, проворно под него поднырнув, не ослабил своим телом удара падения.
– Ты бы снял перчатки и башмаки, – сказал мальчик, – а то так неловко…
Миша согласился, и урок продолжался без перчаток и без башмаков.
Второй дебют был удачнее: Миша перекувырнулся не совсем прямо, как учитель, а немножко набок, но по крайней мере не упал.
– Куртка тоже мешает, – сказал мальчик, – что тебе в ней? Ведь тепло.
Миша снял и куртку и перекувырнулся еще раз, и еще удачнее.
– Однако ж знаешь ли? – продолжал мальчик. – Ведь уроки даром не даются: что ты мне заплатишь?
– А что ты возьмешь с меня?
– Да вот, видишь ли: у нас на дворе скрипач живет, так он берет за урок по сорока крейцеров. Но то скрипка. Что в ней мудреного? Подпер ею подбородок и заскрипел смычком по струнам. Мои уроки помудренее… но изволь, для тебя я, так и быть, по флорину возьму.
Миша согласился.
«Все равно, – подумал он, – один лишний флорин не поправит моего дела».
– Да не снять ли тебе и панталоны! – сказал мальчик. – Еще легче будет тебе…
– Как можно снять панталоны! – отвечал Миша. – Стыдно!..
– Что за стыд? Ведь ты не девочка.
– Нет, все равно, давай так учиться.
– Ну давай хоть так… Да что это ты все по одному разу вертишься? Надо по нескольку раз сряду… Вот так, не останавливаясь и не отдыхая.
И, откатившись шагов на десять от Миши, мальчик, не останавливаясь ни на минуту, быстро перевернулся и прикатился на старое место.
Мише захотелось сделать то же самое, но на втором колесе нога у него подвернулась, и он ударился затылком о землю, к счастью довольно мягкую.
– Это ничего, – сказал учитель, – без этого не выучишься, спроси, сколько раз я падал… Ну давай еще раз.
– Нет, довольно, – сказал Миша, почесывая затылок, – я устал.
– Ну а за урок ты мне заплатишь?
Миша вынул из кармана свой шелковый кошелек: с одной стороны лежали золотые суверены, с другой несколько флоринов. Он вынул флорин и подал его мальчику.
– Эх! Сколько у тебя денег! – вскрикнул мальчишка и, проворно выхватив кошелек, побежал во всю прыть и в одну минуту скрылся за углом постоялого двора. На пути он успел захватить и куртку, и башмаки, и перчатки, и даже фельдъегерскую шапку, свалившуюся с головы Миши во время уроков.

