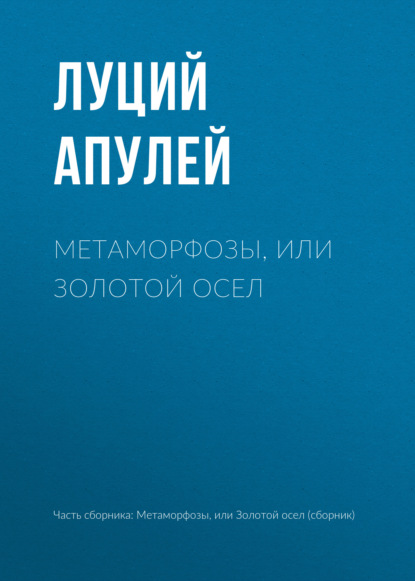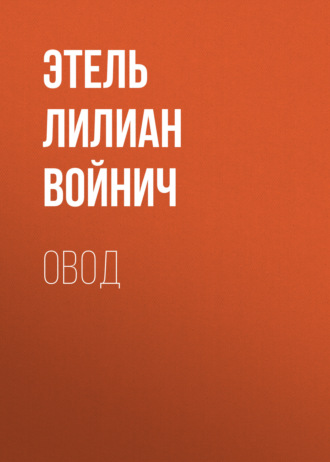 полная версия
полная версияОвод
– Когда же вам нужен окончательный ответ?
– Времени терять не приходится, но могу вам дать два-три дня на размышление.
– Вы свободны в субботу вечером?
– Сейчас соображу… сегодня четверг… да, свободен.
– Ну, так приходите ко мне. Я обдумаю за это время ваше предложение и дам вам окончательный ответ.
В ближайшее воскресенье Джемма послала комитету флорентийского отдела партии Мадзини извещение, что она хочет взяться за специальную политическую работу и поэтому не будет в состоянии исполнять в течение нескольких месяцев работу, за которую она была до сих пор ответственна перед партией.
В комитете это вызвало некоторое удивление, но никто не сделал возражений. Ее знали в партии уже несколько лет как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на то основательные причины.
Мартини она сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «пограничной работе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом.
Они сидели на террасе ее квартиры, глядя на выступавшую вдали за красными крышами вершину Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая – обычные у него признаки душевного волнения. Несколько минут она молча глядела на него.
– Чезаре, вам это очень неприятно, – сказала она наконец. – Мне ужасно жаль, что вас это огорчает, но я должна поступать так, как считаю справедливым сама.
– Меня смущает не дело, за которое вы беретесь, – ответил он мрачно. – Я ничего о нем не знаю и думаю, что оно должно быть хорошим, раз вы соглашаетесь принять в нем участие. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.
– Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала его ближе. Он далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.
– Весьма вероятно.
С минуту он молча шагал по террасе, потом вдруг остановился около нее.
– Джемма, откажитесь. Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в дела, в которых вы потом будете раскаиваться.
– Чезаре, – мягко сказала она, – вы не думаете о том, что говорите. Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению вполне самостоятельно, дав себе время обдумать все предприятие. Я знаю, что вы недолюбливаете Ривареса как человека; но мы говорим о политической работе, а не о личностях.
– Джемма, откажитесь! Это опасный человек: он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем… и он любит вас.
Она отодвинулась назад.
– Чезаре, как могли вы вообразить такую вещь?
– Он любит вас, – повторил Мартини. – Берегитесь его, Джемма.
– Мой милый Чезаре, я не могу держаться далеко от него и не могу объяснить вам почему. Мы связаны друг с другом, и связь эта создана не нами, и не от нас зависит разорвать ее.
– Если ваша связь так крепка, то мне больше нечего возразить, – ответил Мартини усталым голосом.
Он ушел, сославшись на неотложные дела, и в течение долгих часов шагал по грязным улицам. Мир казался ему очень мрачным в этот вечер.
Глава X
К середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма познакомила его с жившим там молодым англичанином, пароходным агентом и либералом по воззрениям, с которым она и ее муж были знакомы еще в Англии. Он не раз уже оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их деньгами, когда у них наступал непредвиденный кризис, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийных писем и т. п. Но все это он делал как личный друг Джеммы, и всегда через нее.
Сообразно партийному этикету, она могла, следовательно, пользоваться этой связью для всяких целей по собственному усмотрению. Но могло ли это знакомство пригодиться в данном случае – другой вопрос. Одно дело – попросить сочувствующего партии иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или хранить в несгораемом шкафу его конторы какие-нибудь документы, и совсем другое – предложить ему перевезти контрабандой транспорт огнестрельного оружия для восстания. Джемма питала очень мало надежды на согласие.
– Вы можете, конечно, попробовать, – сказала она Оводу, – но не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если бы вы пришли к нему с моей рекомендацией, чтобы попросить у него пятьсот скуди{66}, он, конечно, немедленно дал бы их вам: он человек в высшей степени щедрый. Может быть, он одолжил бы вам свой паспорт, если бы понадобилось, или спрятал бы у себя в погребе какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о карабинах, он посмотрит на вас с изумлением и примет нас обоих за сумасшедших.
– Но, может быть, он натолкнет меня на другие пути или познакомит с сочувствующими делу матросами, – ответил Овод. – Во всяком случае, следует попытаться.
Однажды, в конце месяца, он пришел к ней одетый менее тщательно, чем обыкновенно, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.
– А, наконец-то! А я уж начала думать, что с вами что-нибудь случилось.
– Я думал, что безопаснее не писать, а раньше вернуться не мог.
– Вы только что приехали?
– Да, я прямо с дороги. Я заглянул к вам только затем, чтобы сообщить, что дело устроено.
– Вы хотите сказать, что Бейли согласился помочь?
– Больше, чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, транспорт, все решительно. Его компаньон и близкий друг Вильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, и Бейли протащит его через таможню в Ливорно. Поэтому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я поехал с ним до Генуи.
– Чтобы обсудить по дороге все детали?
– Да. И мы говорили до тех пор, пока я не начал так сильно страдать от морской болезни, что потерял всякую способность говорить.
– Вы так плохо переносите море? – быстро спросила Джемма, вспомнив, как Артур заболел морской болезнью, когда ее отец повез однажды их обоих кататься на яхте.
– Очень плохо, несмотря на то, что так много путешествовал по морю. Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Это славный парень, разумный и вообще заслуживающий полного доверия. Бейли ему в этом отношении не уступает, и оба умеют держать язык за зубами. А теперь расскажу вам все подробно.
Когда Овод вернулся домой, солнце давно зашло и цветущая японская айва, свисающая с садовой стены, выглядела темной в потухающем свете. Он сорвал несколько веток и понес их к себе в комнату. Когда он открыл дверь в кабинет, Зитта поднялась со стула в углу и побежала к нему навстречу.
– О, Феличе, я думала, что вы никогда не вернетесь!
Первым его побуждением было резко спросить ее, зачем она зашла в его кабинет, но, вспомнив, что он не видел ее три недели, он протянул ей руку и сказал несколько холодно:
– Добрый вечер, Зитта. Как поживаешь?
Она приблизила к нему лицо, как бы ожидая поцелуя, но он прошел мимо, сделав вид, что не замечает ее жеста, и взял вазу, чтобы вставить в нее цветы. В ту же минуту дверь широко раскрылась, и громадная собака ворвалась в комнату и стала прыгать вокруг Овода, лая и визжа от радости. Он оставил цветы и стал гладить ее.
– Шайтан, старый дружище, это ты? Ну, вот и я. Дай лапу.
Зитта взглянула на него жестким, сердитым взглядом.
– Хочешь обедать? – спросила она холодно. – Я заказала обед у себя; ты писал, что вернешься сегодня вечером.
Он быстро обернулся к ней:
– О-очень жалею, тебе не с-следовало ждать меня. Я только немножко оправлюсь и сейчас же приду. М-может быть, ты поставишь эти цветы в воду?
Когда он вошел в столовую Зитты, она стояла у зеркала, прикрепляя ветку цветов к корсажу. Она, очевидно, решила быть веселой и подошла к нему с маленьким пучком красных бутонов в руке.
– Вот бутоньерка. Я прикреплю ее тебе.
Во время обеда он старался изо всех сил быть любезным и поддерживал веселый разговор. Она отвечала ему, счастливо улыбаясь все время. Ее явная радость при виде его несколько смущала Овода. Он привык к мысли, что она ведет отдельное существование среди друзей и знакомых, близких ей по духу; ему никогда не приходило в голову, что она могла скучать по нему. И все-таки она, вероятно, тосковала, судя по тому, как обрадовалась ему.
– Хочешь пить кофе на террасе? – спросила она. – Сегодня такой теплый вечер.
– Хорошо. Я возьму твою гитару: может быть, ты споешь что-нибудь.
Он обыкновенно скептически относился к ее музыке и нечасто просил ее петь.
На террасе была широкая деревянная скамейка вдоль стены. Овод выбрал угол, откуда открывался красивый вид на холмы, и Зитта, взобравшись на выступ стены и поставив ноги на скамейку, прислонилась к колонне, поддерживающей навес. Она не особенно интересовалась живописным видом. Ей было интереснее глядеть на Овода.
– Дай папироску, – сказала она. – Я ни разу не курила со времени твоего отъезда.
– Прекрасная мысль, мне недоставало только папироски для полноты счастья.
Она нагнулась и взглянула на него серьезно:
– Ты в самом деле счастлив?
Лицо Овода прояснилось:
– Почему же нет? Я хорошо пообедал, передо мной теперь с-самый прекрасный вид Европы, скоро будет кофе, и я услышу венгерскую народную песню. Ничто не мучит моей совести, пищеварение у меня в порядке. Чего же еще можно желать?
– Я знаю еще что-то, чего тебе хочется.
– Чего?
– Вот. – Она протянула ему маленькую коробочку.
– Засахаренный миндаль! Почему ты не сказала раньше, до папироски? – спросил он с упреком.
– Почему, ребенок ты этакий! Да ты можешь есть его и после папироски. А вот и кофе.
Овод стал пить маленькими глотками свой кофе и есть засахаренный миндаль с важным и сосредоточенным наслаждением, точно кошка, которая пьет сливки.
– Как приятно напиться порядочного кофе после той гадости, которую дают в Ливорно, – сказал он задумчиво.
– Поэтому оставайся лучше всегда дома.
– Некогда… я завтра опять уезжаю.
Улыбка исчезла с ее лица:
– Завтра? Почему? Куда?
– В разные места, по делам.
Он решил в разговоре с Джеммой, что должен сам отправиться в Апеннины, чтобы войти в соглашение с контрабандистами относительно перевозки оружия. Переправа через границу Папской области была чрезвычайно опасной, но необходимой для успеха задуманного предприятия.
– Вечные дела! – сказала Зитта со вздохом и затем спросила: – Ты надолго уезжаешь?
– Нет, на две или, может быть, на три недели.
– Опять по тому делу? – спросила она отрывисто.
– «Тому» делу?
– Тому, из-за которого ты постоянно пытаешься сломать себе шею; все та же вечная политика?
– Да, это имеет некоторое отношение к политике.
Зитта отбросила папироску.
– Ты меня обманываешь теперь, – сказала она. – Тебе грозит опасность.
– Я отправлюсь прямо в ад, – ответил он лениво. – Может быть, у тебя там есть друзья, которым ты хочешь послать веточку плюща, – нечего, однако, обрывать всю зелень.
Она яростно обрывала ползучие растения, обвивавшие колонны, и гневным, резким движением откинула прочь пригоршню листьев.
– Тебе грозит опасность, – повторила она, – и ты не хочешь мне прямо сказать; ты думаешь, что со мной можно только шутить. Тебя еще повесят скоро, и ты не попрощаешься со мной. Эта вечная политика надоела мне.
– Да и м-мне также, – сказал Овод, зевая. – Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?
– Хорошо, дай мне гитару. Что мне спеть?
– Балладу о потерянной лошади. Она удивительно подходит к твоему голосу.
Она начала петь старую венгерскую балладу о человеке, который лишается сначала своей лошади, потом своего дома и, наконец, своей возлюбленной и утешает себя тем, что «еще более было потеряно на Могашском поле». Это была любимая песня Овода. Дикость и трагизм мелодии, а также грустная примиренность припева нравились ему более всякой нежной музыки.
Зитта чувствовала себя удивительно в голосе. Звуки выходили из ее уст сильными и ясными, полными страстной жажды счастья. Ей не удавались итальянские или славянские песни, и тем более германские, но венгерские народные песни она пела удивительно хорошо.
Овод слушал ее, широко раскрыв глаза и полуоткрыв рот. Она никогда так хорошо не пела. Но когда она пела последнюю строчку, голос ее вдруг задрожал:
О, все равно – больше было потеряно…
Она оборвала песню, зарыдала и спрятала лицо в зелень плюща.
– Зитта! – Овод встал и взял у нее из рук гитару. – В чем дело?
Она только судорожно рыдала, закрыв лицо обеими руками. Он тронул ее за плечо.
– В чем дело, скажи? – спросил он ласково.
– Оставь меня, – сказала она, рыдая, и отшатнулась от него. – Оставь меня!
Он спокойно вернулся на свое место и подождал, пока она перестала рыдать. Вдруг она опустилась на колени около него и обхватила его руками.
– Феличе, не уезжай, не уезжай!
– Об этом мы потом поговорим, – сказал он, мягко отстраняя обвившие его руки. – Скажи мне прежде, в чем дело, чего ты испугалась?
Она тихо покачала головой.
– Я чем-нибудь причинил тебе боль?
– Нет. – Она поднесла руку к горлу.
– Ну, так что же?
– Тебя убьют, – сказала она наконец. – Я слыхала, как один из людей, которые к тебе приходят, говорил, что тебе грозит опасность. А когда я спрашиваю, ты все смеешься надо мной.
– Дорогое дитя, – сказал Овод после некоторого молчания. – У тебя какие-то преувеличенные понятия о вещах. Конечно, когда-нибудь меня убьют. Это обычный конец революционеров, но нет никакой причины предполагать, что меня как раз убьют теперь. Я рискую не более всех других.
– Других? Что мне за дело до других? Если бы ты меня любил, ты не уезжал бы таким образом, оставляя меня в тревоге. Я не сплю по ночам, боясь, что тебя арестуют, и во сне мне кажется, что ты убит. Ты обо мне думаешь меньше, чем вот об этой собаке.
Овод встал и медленно прошел к другому концу террасы. Он был совершенно не подготовлен к такой сцене и не знал, что отвечать. Да, Джемма была права: он запутал такой узел благодаря своему легкомыслию, что теперь трудно будет распутать его.
– Сядем и поговорим обо всем этом спокойно, – сказал он, возвращаясь к Зитте. – Мы, кажется, не совсем понимаем друг друга. Конечно, я не смеялся бы, если бы знал, что ты серьезно тревожишься. Объясни, что тебя тревожит, и тогда, если есть какое-нибудь недоразумение, мы его выясним.
– Нечего выяснять, я вижу, что ты меня совсем не любишь.
– Дорогое дитя, будем лучше вполне откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, кажется, никогда не обманывал тебя насчет…
– О нет, ты всегда был совершенно откровенен. Ты никогда не скрывал, что считаешь меня потерянной женщиной, которая доступна была всем другим до тебя… Ты всегда это говорил…
– Зитта, что ты!.. Я никогда не думал ничего подобного, я никогда не говорил…
– Ты никогда не любил меня, – настаивала она капризным тоном.
– Да, я никогда не любил тебя. Но выслушай меня и постарайся не осуждать.
– Я и не осуждаю. Я…
– Подожди минутку. Вот что я хочу сказать. Я не верю ни в какую условную мораль и не исполняю ее предписаний. Я считаю отношения между мужчиной и женщиной вопросом личной приязни или неприязни…
– И денег, – прервала она с резким, отрывистым хохотом.
Он нахмурился и остановился на минутку.
– Да, конечно. В этом отвратительная сторона вопроса, но поверь, если бы я заметил, что не нравлюсь тебе, я бы никогда не воспользовался твоим стесненным положением, чтобы иметь тебя около себя; я никогда не поступал таким образом ни с одной женщиной в своей жизни и никогда не лгал ни одной женщине относительно своих чувств к ней; поверь, что я говорю правду. – Он остановился на минуту, но она ничего не отвечала. – Я думал, – продолжал он, – что если человек одинок в жизни, если он чувствует потребность в присутствии женщины около себя и если он может найти женщину, которая ему нравится и которой он тоже внушает доброе чувство, то он имеет право принять с благодарностью расположение этой женщины, не вступая с нею в более прочный союз. Я не вижу в этом ничего дурного, если нет несправедливости, обмана или оскорбления с той или другой стороны. О твоих прежних отношениях к другим мужчинам я не думал. Я только знал, что наша связь не тягостна и что каждый из нас свободен нарушить ее, как только она станет тяжелой. Если я ошибался, если ты иначе на это смотришь, то…
Он опять замолчал.
– То? – прошептала она, не глядя на него.
– То я был несправедлив к тебе, и меня это очень огорчает. Но я сделал это без всякого намерения.
– «Огорчает»? «Без всякого намерения»? Да ты каменный, что ли, Феличе? Неужели ты никогда не любил женщину в своей жизни и не видишь, что я тебя люблю?
Что-то в нем внезапно дрогнуло при этом слове. Так много времени прошло с тех пор, как ему говорили слова «я тебя люблю». Зитта вдруг вскочила и обняла его обеими руками.
– Феличе, уедем вместе со мной, уедем из этой ужасной страны, от этих людей, от политики. Что нам за дело до них? Уедем и будем счастливы. Уедем в Южную Америку, где ты жил прежде.
Физический ужас от воспоминаний вернул Оводу самообладание. Он отнял руки ее от своей шеи и крепко сжал их.
– Зитта, постарайся понять, что я говорю. Я тебя не люблю, а если бы и любил, то и тогда не уехал бы с тобой. У меня в Италии есть дело и товарищи.
– И еще кто-то, кого ты любишь больше, чем меня! – крикнула она с отчаянием. – О, я готова убить тебя! Не о товарищах думаешь ты, а я знаю о ком!
– Тише, – сказал он. – Ты взволнована и воображаешь то, чего нет на самом деле.
– Ты думаешь, что я говорю о синьоре Болле? Меня не так легко обмануть. С нею ты говоришь только о политике. Ты так же мало любишь ее, как и меня. Ты думаешь только о кардинале.
Овод вздрогнул.
– О кардинале? – повторил он машинально.
– Да, о кардинале Монтанелли, который здесь проповедовал осенью. Разве я не видела твоего лица, когда проезжала его коляска? Ты был белый, как этот платок. Да и теперь ты дрожишь как лист, как только я упомянула его имя.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Я ненавижу кардинала. Он мой злейший враг.
– Враг или нет, но ты любишь его более, чем кого-либо на свете. Посмотри мне в лицо и скажи, что это неправда, если можешь.
Он отвернулся и стал смотреть в сад. Она глядела на него украдкой, ужасаясь сама тому, что сделала.
Было что-то странное в его молчании. Наконец она подкралась к нему, как испуганное дитя, и робко потянула его за рукав. Он обернулся к ней.
– Это правда, – сказал он.
Глава XI
– А не м-могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? Бризигелла для меня опасное место.
– Каждая пядь земли в Романье опасна для вас; но в данный момент Бризигелла как раз безопаснее всякого другого места.
– Почему?
– Сейчас объясню. Не надо, чтобы этот человек в синей куртке видел ваше лицо: он опасный субъект… Да, буря была ужасная. Давно уж не приходилось видеть виноградники в таком разорении.
Овод вытянул руки на столе и положил на них голову лицом вниз, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший слишком много вина. Окинув быстрым взглядом комнату, посетитель в синей куртке увидел двух фермеров, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, упавшего головой на стол. Такую картину можно было часто увидеть в кабачках маленьких деревушек вроде Марради. Обладатель синей куртки решил, по-видимому, что сидеть и слушать – не к чему, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату кабака, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином о местных делах, он постоял там немного, заглядывая время от времени уголком глаза через полузакрытую дверь в комнату, где сидели за столом три человека. Фермеры продолжали потягивать вино и толковали о погоде на своем местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого вполне чиста.
Наконец шпион решил, по-видимому, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время дальше. Он заплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел вдоль узкой улицы.
Овод встал, зевая и потягиваясь, и сонным жестом потер себе глаза рукавом полотняной блузы.
– Недурно у них налажена слежка, – сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал им ломоть ржаного хлеба, лежавшего на столе. – Очень они изводили вас за последнее время, Микеле?
– Хуже, чем москиты в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду вертится шпион. Даже наверху, в горах, куда они когда-то не отваживались соваться, они теперь бродят группами по три-четыре человека. Не правда ли, Джино? Поэтому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.
– Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничный город всегда полон шпионов.
– Бризигелла как раз теперь очень подходящее место. Она полным-полна богомольцами, собравшимися со всех концов страны.
– Но она им совсем не по дороге.
– Она немного в стороне от дороги в Рим, и многие паломники, идущие на Восток, делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню.
– Я не знал, что в Бризигелле есть что-нибудь особенно замечательное.
– Там кардинал. Помните, он приезжал проповедовать во Флоренцию в декабре прошлого года? Так это тот самый кардинал Монтанелли. Говорят, он производит большую сенсацию.
– Весьма вероятно. Я-то не хожу слушать проповеди.
– Да у него, видите ли, репутация святого.
– Как это он себе добыл ее?
– Не знаю. Думаю, такой славой он пользуется потому, что раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста – пятьсот скуди в год.
– Мало того, – вставил тот, которого называли Джино. – Он отдает не только деньги, но и всю свою жизнь: помогает бедным, смотрит, чтобы за больными был хороший уход, с утра до ночи к нему приходят с просьбами. Я не больше вашего люблю попов, Микеле, но монсеньор Монтанелли не похож на других наших кардиналов.
– Да, он больше смахивает на блаженного, чем на плута! – сказал Микеле. – Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Народ любит покупать эти вещи, чтобы потом просить кардинала прикоснуться к ним. А потом они вешают их на шею своим маленьким детям от дурного глаза.
– Подождите минутку. Как же мне идти? В виде паломника? План-то, положим, мне очень н-нравится, но не годится мне показываться в Бризигелле в том же самом виде, как и здесь: это было бы у-уликой против вас, если бы меня арестовали.
– Вас не арестуют: для вас имеется превосходный костюм, с паспортом и всем, что требуется.
– Какой же это костюм?
– Старика богомольца из Испании – раскаявшегося разбойника с гор Сьерры. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших друзей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. Он и оставил нам свои бумаги, чтобы чем-нибудь проявить свою благодарность. Они теперь вам как раз пригодятся.
– Раскаявшийся р-разбойник? Как же быть с полицией?
– О, с этой стороны все обстоит благополучно! Он отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и все ходил с тех пор в Иерусалим и в разные святые места, спасая душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции в припадке раскаяния.
– Он совсем уже старик?
– Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а во всех остальных отношениях приметы его идеально подходят к вам.
– Где же я должен встретить Доминикино?
– Вы пристанете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. Когда вы придете в город, идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.
– Так он, значит, живет во дворце, несмотря на всю свою святость?
– Он живет в одном крыле дворца, а остальная часть превращена в больницу. Богомольцы будут ждать, чтобы он вышел и дал им свое благословение, а Доминикино появится в эту минуту со своей корзиной и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» И вы ответите ему: «Я жалкий грешник». Тогда он поставит свою корзину наземь и начнет утирать лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольди за четки.
– Тут мы, разумеется, и условимся, где собраться?
– Да, у него будет более чем достаточно времени, чтобы сообщить вам адрес, пока народ будет глазеть на кардинала. Мы придумали такой план; но если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.
– Нет, нет, ваш план годится. Смотрите только, чтобы борода и парик были хорошо сделаны.