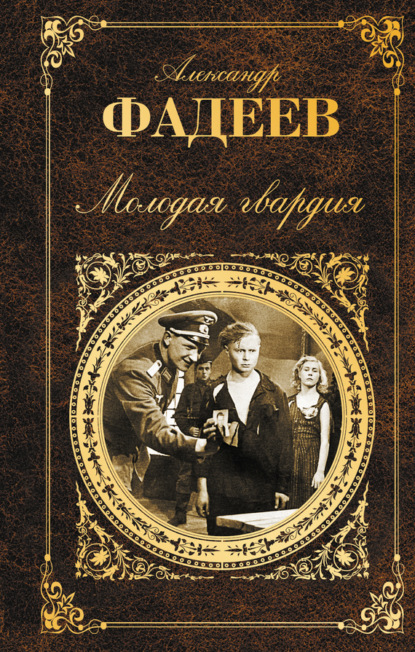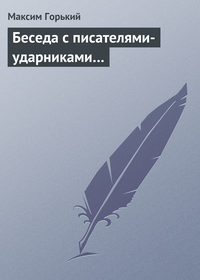Полная версия
На дне. Избранное (сборник)
– Врешь! – говорит Объедок.
– Я вру? – орет Аристид Кувалда, красный от гнева.
– Зачем кричать? – раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. – Зачем рассуждать? Купец, дворянин – нам какое дело?
– Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку… – вставляет дьякон Тарас.
– Отстаньте, Объедок, – примирительно говорит учитель. – Зачем солить селедку?
Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удается ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.
– Я повторяю, – более спокойно продолжает он, – я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо…
– Однако, брат, – говорит учитель, – купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы…
– Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним…
– А до этих тебе какое дело? – тихо спрашивает учитель.
– А – разве я не живу? Ага! Живу – значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.
– И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке, – задирает Объедок.
– Хорошо! Это глупо, я согласен… Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно… Но чем же я и все вы – чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?
– Вот ты начинаешь говорить умно, – поощряет его учитель.
– Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства… нам нужно что-то такое, новое… ибо и мы в жизни новость…
– Несомненно нам нужно это, – говорит учитель.
– Зачем? – спрашивает Конец. – Не всё ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить… мне сорок, тебе пятьдесят… моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такою жизнью.
– И какая мы новость? – усмехается Объедок. – Гольтепа всегда была.
– И она создала Рим, – говорит учитель.
– Да, конечно, – ликует ротмистр, – Ромул и Рем – разве они не золоторотцы? И мы – придет наш час – создадим…
– Нарушение общественной тишины и спокойствия, – перебивает Объедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:
– Всё это глупости, – мечты, – ерунда!
Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.
Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек – он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, – хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Объедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.
Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного и – у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.
Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:
– Баб ко мне не водить… Бабы, купцы и философия – три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью… За философию – оторву голову…
Он мог оторвать голову – несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой всё сокрушавшую и несокрушимую машину.
Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.
Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:
– Я не могу не передергивать… Это у меня привычка.
– Бывает, – подтвердил дьякон Тарас. – Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда, умерла она – такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил – вижу, плохо! Другое – стерпел. Третье – кухарку ударил раз… Обиделась она… Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье – вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился…
– Дьякон, – врешь! Как ты мог в другой раз жениться? – оборвал его Объедок.
– А? А я так – она у меня за хозяйством смотрела.
– У вас были дети? – спросил его учитель.
– Пять штук… Один утонул. Старший, – забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита… Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере… от чахотки, говорят… Д-да… пять было… как же! Мы, духовенство, плодовитые…
Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.
– Лидкой звали… Толстая такая…
И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и – умолк.
О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.
А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди – интеллигенцией клуба.
По субботам – вечерами, в воскресенье – с утра до ночи – трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и всё осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей – не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За всё это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.
По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр – куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от сумы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.
Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.
– Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? – жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.
Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.
– Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города – и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек – девицы для упряжки вполне годные. А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла – на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.
Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:
– А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..
– Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу – ну и пускай!
– Некоторые дома попадать хотят…
– Не мешайте им, пускай падают! Упадут – дери с города вспомоществование; не даст – валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов…
– Вода – от дождя, скажут…
– Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!
И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.
Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.
В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более – признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.
– Справедливо – одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста – верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я – посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою… Квит!
Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту, – всё это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.
– Видел я, – говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, – видел я, как ты бил свою жену…
Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находился в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.
– Видел? Понравилось? – спрашивает Яшка. Публика сдержанно смеется.
– Нет, не понравилось, – отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.
– Кажись бы, я старался, – бравирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет». – Жена довольна, – не встает сегодня…
Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:
– Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это… Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам – значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства – денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным – и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей… Верно я говорю?
– Верно, – подтверждает публика.
– Ну, это, чай, тово, – не случится! – говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем. – Она здоровая… сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! – восклицает он с огорчением. – Чуть я что, – и пойдет меня есть, как ржа железо!
– Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену, – снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя, – у тебя на это много причин… Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь… а вся твоя темная и печальная жизнь…
– Вот это верно, – восклицает Яков, – живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.
– Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена… самый близкий к тебе человек – и терпит без вины перед тобой только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это… нелепо!
– Оно так… черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?
– Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам – бей по шее или возьми веревку и… по мягким местам…
Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.
Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека – мораль кабака и несчастия.
– Что, брат Яша, понял?
– Вот она какая правда-то бывает!
Яков понял: неосторожно бить жену – вредно для него.
Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.
– И опять же, что такое жена? – философствует калачник Мокей Анисимов. – Жена – друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь – цепь почуешь…
– Погоди, – говорит Яков, – ведь и ты свою бьешь?
– А я разве говорю – нет? Бью… Иначе невозможно… Кого же мне – стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?
– Ну вот, и я тоже… – говорит Яков.
– Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!
– И даже жену бей с оглядкой! – юмористически скорбит кто-то.
Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.
За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет… Как жить?
Невеселые думы вызывали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.
Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая всё, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.
Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.
– Не горюй, братцы! Всё имеет свой конец – это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето… Славное время, когда, говорят, и у воробья – пиво.
Но его речи не действовали – глоток самой чистой воды не насытит голодного.
Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.
Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств.
И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.
II
Всё относительно на этом свете, и нет в нем для человека того положения, хуже которого не могло бы ничего быть.
Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.
Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.
Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу – о! с каким наслаждением он испортил бы ее!
Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.
Перед глазами ротмистра стоял этот купец – маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластное лицо, с седой клинообразной бородкой, с высоким изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкали узкие серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.
«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» – выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:
– Энто тот самый огарок – квартирант-от ваш?
И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.
И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.
– Сидишь? – спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.
– Мыкаешься? – в тон ему сказал ротмистр и сдалал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.
– Денег у меня много – вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, – дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.
– Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю, – комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.
– Али это не всё равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно… А вот ежели без них…
И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.
– Имея ум и совесть, можно жить и без них… Деньги обыкновенно являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает… Совести меньше – денег больше…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Скончался писатель Максим Горький… Алексей Пешков, известный в литературе под именем Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье… (фр.)