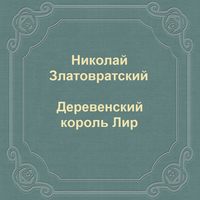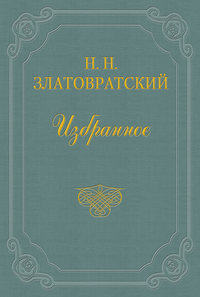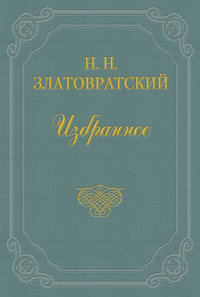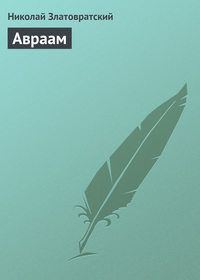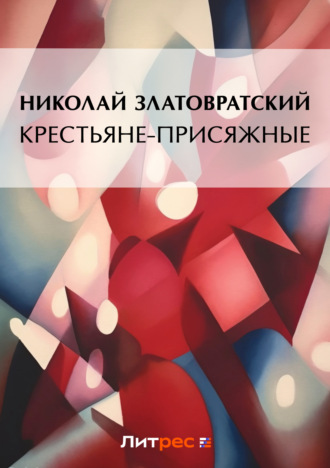 полная версия
полная версияКрестьяне-присяжные
– Охранят или не охранят? – гадает благонамеренный гражданин, закрыв глаза и стараясь свести один на один свои указательные пальцы.
Но в этом гуле звучали и иные струны.
На одной из скамеек шел сдержанный разговор.
– Это – риск, – говорил горбоносый господин, – только риск необходимый.
– Но ведь, согласитесь, здесь главным образом затрагивается непосредственное чувство справедливости, – возражал белокурый, красивый его собеседник с бархатными ресницами, с бархатными баками и с «бархатными» глазами.
– На непосредственность здесь рассчитывать невозможно. Да и что такое «непосредственное чувство»?.. Не прирожденное же оно правосудие.
– Вы, Сергей Владиславыч, слишком мрачно смотрите. Вы пессимист.
– А вы… оптимист?
– Кто же прав? – спросила, пытливо окинув их взглядом, сидевшая рядом с горбоносым господином молоденькая дама.
– Я думаю, что я, – отвечал ее сосед.
– Так, значит, ты… против? – дрогнувшим голосом проговорила молоденькая дама.
– Против… кого?
– Против них? – кивнула дама едва заметно к пустым креслам присяжных.
– А ты против того и той? – угрюмо промычал пессимист, показав глазами на подсудимого и скамью свидетелей, где сидела женщина и несколько мужчин.
– Значит, без исхода? – едва выговорила молоденькая дама и вдруг вся вспыхнула от сильного волнения.
– Пока – да.
– Следовательно, эти должны быть жертвой?
– Да. Чтобы просветились те, должны погибнуть эти…
Скрипнула боковая дверь. Глаза всех обратились на нее. Молоденькая дама лихорадочно откинула вуаль, нагнулась всем корпусом вперед и как будто замерла. В дверь один за другим выходили медленно присяжные: три купца, учитель духовного училища, купеческий сын, Гарькин, трое шабринских, Недоуздок, Савва Прокопов и Еремей Горшок. Пока они неторопливо устанавливались перед эстрадой судей, в зале было глубокое молчание. Слышалось поскрипывание сапог; из чьей-то груди вырвался подавленный вздох и замер. Купеческий сын Сабиков держал вердикт. Присяжные установились; Сабиков поклонился судьям, кашлянул и начал скороговоркой, раскачиваясь всем туловищем за каждою фразой:
– Виновен ли подсудимый, кандидатского университета, в том, что, получив ложные сведения о смерти своей жены, с которою он не имел совместного жительства, воспользовался этим и вступил в другой брак с девицею NN, то есть сделался двоеженцем?
Здесь купеческий сын неловко кашлянул и поперхнулся. Потребовался платок. Пауза была томительная.
– Да, виновен! – не сказал, а выкрикнул как-то Сабиков, поклонился еще раз, подал председателю вердикт и, весь красный, обливаемый потом, обернулся к публике.
Присяжные направились к своим местам. Едва они сели, раздался слабый, болезненный, одинокий крик. Вздрогнул Недоуздок. Тишина внезапно порвалась, и по залу пронесся сдержанный глухой ропот. Осужденный, бледный, бесстрастными и широко открытыми глазами глядя на присяжных, опустился бессильно на скамью. Около скамьи свидетелей хлопотливо суетились горбоносый господин, принимая стакан с водой от пристава, белокурый бархатный красавец и молоденькая дама. С госпожой NN был обморок. Все время, пока судьи совещались о «мере наказания», Недоуздок упорно и неподвижно смотрел на подсудимого. Казалось, он или припоминал что-то давно забытое, или изучал и наблюдал новое, незнакомое явление.
Шумно расходилась многочисленная публика. Крестьяне-присяжные стеснились в углу. Недоуздок стоял рядом с Саввой Прокофьичем.
Толстяк с орденом на шее поравнялся с пеньковцами, и Лука Трофимыч торопливо шепнул: «Кланяйся, братцы!.. Это он самый, Фомушкин-то»… Савва перепугался. Пробежали братья-адвокаты, за ними торопливо представитель и купеческий сын, таща за руку вспотевшего Гарькина. Гарькин махнул за собой шабринских. Пеньковцы сошли медленно в швейцарскую.
– Присяжный будете? – вдруг окликнул кто-то Недоуздка. Петр обернулся: перед ним надевал «медведку» благонамеренный гражданин.
– Присяжный.
– А!
Благонамеренный гражданин улыбнулся во весь рот, приподнял шляпу, чуть не сделал ручкой и, завернувшись воротником, выбежал на крыльцо.
– Гришка! – крикнул он.
Подкатила пара в яблоках.
– Барыню отвез?
– Отвез.
– К себе?
– Так точно-с.
– Н-ну, так… к Амалии… Па-ашеел! – крикнул благонамеренный гражданин.
Лошади подхватили и вмиг скрылись в снежном вихре.
«Этот чему обрадовался?» – подумал Недоуздок.
С лестницы тихо спускались дама и мужчина; они вели под руки госпожу NN. Пеньковцы уже шли. Недоуздок с Саввой Прокофьичем приостановился и пристально смотрел на сходивших. За первыми на лестнице показались горбоносый господин, дама с опущенным густым вуалем и оптимист.
– Ты обвиняешь их? – спросила дама горбоносого господина, проходя мимо Недоуздка, и, как ему казалось, кивнула в его сторону.
– Я никого не обвиняю, – раздраженно проворчал пессимист. – Но умиляться-то тоже не от чего…
– Но согласитесь, что известная форма… – заговорил оптимист.
– Форма! Форма! – пессимист передернул плечами. – Насквозь прогнившее содержание…
– Сережа, ради бога тише! – прервала его с мольбою молоденькая дама, боязливо оглядываясь.
– Вы возмущены… Вы все видите… – заметил было опять оптимист.
– Я вижу только одно: глупо-добродушного ребенка, приходящего в восторг.
Оптимист горько улыбнулся.
– Но просвещающее влияние… Вы сами говорили, что «пока»…
– Говорил, потому что был так же глуп…
– Вы, по крайней мере, не можете отрицать, что душа народа…
– Слыхал. Посмотрите, кто идет впереди нас…
– Сережа! – проговорила в волнении молоденькая дама и крепко сжала ему руку. – Час тому назад ты был справедливее.
Горбоносый господин нервно передернул плечами. Разговаривающие прошли.
– О чем они, Петра? – спросил Савва Прокофьич.
– В оба уха слушал, ничего не понял, – отвечал Недоуздок. «И откуда они так научились разговаривать?» – подумал он.
Публика продолжала спускаться с лестницы. Чем ближе к выходу, чем дальше от залы суда, тем смелее высказывались замечания; глухой ропот, едва пронесшийся в зале заседаний, сделался здесь внушительнее и резче.
– Ну что, батюшка, как ты себя чувствуешь? – спрашивала старушка с седыми, распущенными из-под шляпки буклями, опираясь на руку провожавшего ее молодого человека.
– Ma tante[3], прошу вас…
– Нет уж, mon ami[4], ты извини: не поверю… Нет, нет, ты меня этим либеральничаньем не смущай больше… И если ты мне хоть заикнешься, – лишу, как хочешь… Все Неточке передам… Бог мой!.. Да это так и должно быть: мужики – так мужики и есть… Разве им что-нибудь значит засудить человека?
– Ma tante, из этого ничего не следует. – Юноша подает старухе атласный салоп, и они выходят.
– Помилуйте!.. Разве это возможно? – говорит, гремя саблей, высокий и плотный капитан. – Чего же это прокурор смотрит? Заведомо засуживают мужики невинного человека – и…
– Вероятно, это дело не оставят, – успокаивает его статский.
Перед Недоуздком и Саввой Прокофьичем вдруг останавливается седенький старичок, держа в руках табакерку и разминая в ней пальцами табак.
– Насколько могу припомнить, – говорит он, всматриваясь в них прищуренными глазами, – вы были в составе присяжных?
– Были-с.
– Нехорошо, нехорошо… Гм… – Старичок понюхал табаку. – Зачем же вы человека-то засудили?.. Впрочем, извините, не смею любопытствовать.
Старичок вытер нос, раскланялся и отошел.
– Да разве мы виноваты? – спросил Савва Недоуздка, боязливо глядя на него.
Зашуршал по полу длинный шлейф. Молодая дама вскинула лорнет и близорукими глазами пристально посмотрела в лицо сначала Недоуздка, потом Саввы Прокофьича и, сжав губы, прошла мимо. Савве было не по себе.
– Петра, уйдем, – сказал он.
* * *Трактир политичного гласного был полон. Висевшие с потолков лампы смутно светили в удушливом, наполненном промозглыми парами и табачным дымом воздухе. Безалаберный гул голосов покрывал собою грохот машины, со всем старанием разыгрывавшей веселый мотив. Градский представитель, с блаженною улыбкой и размалеванными яркою краской щеками, стоял перед нею и, растопырив, подобно крыльям, руки, что-то выделывал и ими, и ногами в такт веселому мотиву.
– Наддавай, наддавай!.. Звуку больше! Маменька, вынеси! Голубушка, коленцо! – с каким-то замиранием объяснялся он с машиною. – Не пискни, голубушка! Раз! Начинает!.. Тише вы!.. Слушай!
Представитель замер. Пьяные гости, бессмысленно улыбаясь и выпучив осовелые глаза, широко раскрыли рты, как бы собираясь со всем усердием проглотить не только «колено», но и всю машину. Половые, ухмыляясь, замерли на своих местах, задержав на минуту неугомонную беготню.
Недоуздок, проходивший в это время с Саввой Прокофьичем мимо трактира, приостановился и не утерпел, чтобы не удовлетворить своего любопытства.
– Зайдем, – сказал он Савве.
– Нету… Ну их!..
– Не надолго… Только заглянем… Что они там…
Они вошли и присели у дверей. Савва Прокофьич долго не мог понять, что такое происходило перед ним. Впечатление строго торжественных сцен суда перед многочисленным сборищем городской публики, какое он когда-либо видывал, сцены разъезда после суда, грохот машины, пылающие лица трактирных гостей – все перемешалось у него в голове. И только когда машина смолкла, он мог рассмотреть разглаживавшего самодовольно бороду Гарькина, сидевшего среди купцов, осклаблявшиеся физиономии мужиков, залезших за ним на «чистую» половину, и, наконец, умиленного представителя, кричавшего: «Важно, маменька! Уважила!»
– Позвольте вас спросить, – вдруг обратился к Савве Прокофьичу купеческий сын, чем-то озабоченный.
Савва Прокофьич смешался.
– Вы вот с энтим самым господином коммерсантом, – показал Сабиков на Гарькина, – из одной волости будете?
– Нет, мы разных будем.
– Ну, все ж, из одних мест?
– Из мест – из одних… Шабры…
– Ну вот! Ведь он Гарькин будет?
– Он самый.
– Не Савелов?
Савва Прокофьич замялся: он испугался, как бы ему чего не было.
– Так не Савелов? – допрашивал купеческий сын.
– Нет, не Савелов.
– Ну, так и есть!.. У меня, я помню, где-то записано было… Жена тогда так и сказывала, когда он было меня нагрел… Вы позвольте… Будьте свидетелем… Я сейчас, – проговорил Сабиков и подошел к «братцам-адвокатам».
Савва Прокофьич совсем струсил.
– Н-ну вас тут совсем! – прошептал он и выбрался за дверь.
Гарькин обернулся – Саввы Прокофьича уже не было. Около купеческого сына между тем стали собираться слушатели.
– То-то, думаю себе, как будто затмение, – рассказывал он, размахивая руками. – Мы, изволите видеть, по своей коммерции такого обычая держимся: записывать, кто ежели нашего брата насчет какого товара объедет… Жена, изволите видеть, приехала и говорит: смотрю – полотно…
– Да в чем дело-то, говорите! – крикнул Саша.
– Самозванец, – растерявшись, проговорил Сабиков.
– Кто?
– Вот они-с, – показал он на Гарькина.
– Ах, черт возьми! – с досадой сказал Саша. – Теперь кассируют. А все это мужичье!
– Конечно, Сашурка, они, – поддержал представитель.
Гарькин давно уже подозрительно поглядывал на купеческого сына и вдруг, заметив Недоуздка, побледнел и смолк.
– Что такое? – переспрашивали в трактире.
– Оказия!
– Какая?
– Мужичье кого-то засудило…
– Господин купец! А почему, позвольте спросить, вы пили-пили – и вдруг самозванец? – обратился представитель к Гарькину.
Гарькина охватил столбняк.
В эту минуту какое-то непонятное, необычайное волнение овладело Петром; он покраснел, глаза его забегали.
– Обманщик! Иуда! – крикнул он в лицо Гарькину и, как ребенок, выбежал из трактира.
Гарькин очнулся…
VII
Бегуны
Между тем Савва Прокофьич вернулся на постоялый двор. Пеньковцы только что собирались обедать. Савва Прокофьич присел и ничего не сказал. После обеда он совсем затих, замер и забрался в самый дальний угол избы. Долго и подозрительно всматривался в него Лука Трофимыч, а Савва посидит-посидит и вдруг, без всякой видимой причины, пересядет на другое место.
– Прокофьич, а Прокофьич! – окликнул его Лука Трофимыч.
– А?
– Ты чего?
– Ничего.
Савва пересаживается.
– Чего ты не посидишь толком, Савва?
– Страх…
– Какой страх?
– А так: пред бедой бывает эдак.
– Пужа-ай! Чего у вас там с Недоуздком не было ли? – спрашивает он дальше.
– Было.
– Да что было-то?
– В том и страх, что не знаю.
– Как же так?
– В ум не возьму.
Так пеньковцы ничего и не добились от Саввы Прокофьича.
Стемнело. Дверь потихоньку отворилась, и медленно вошли все четверо шабринских; физиономии у всех вытянутые, глаза широко открытые, – пришли и, не говоря ни слова, уселись по лавкам, помолчали.
– А-ах, папашенька… Дело-то! – наконец произнес рыжебородый шабер.
– Что еще? – спросил Лука Трофимыч.
– Не слыхали нешто?
– Чего слыхать-то?
– Убег ведь… – Кто?
– Наш-то… Парамен Петрович… Умница-то, в бега!
– Как так?
– А так, оченно, папашенька, даже просто: в моих и валенках-то… Вот оно что! Пришли этто мы к себе из трактира, глядим: валенок-то моих и нет, а его середь избы валяются… Это он с трусу-то не разобрал… И опять же теперь шапку баранью забыл, так в шляпе и улетел. Мы спрашивать; говорят: лови в поле ветер! Он теперь так-то ли на парочке по первопутью закатывает!
– С чего ж это он? Али что открылось?
– А вы бы об этом свово молодца спросили.
– Недоуздка? – спросил Лука Трофимыч.
– Верно, что его… Теперь, папашенька, беда… Дело поголовное!
Лука Трофимыч смутился.
Но в эту минуту вошел Недоуздок и молча снял разлетай.
– Петра, что у вас там? – спросил Лука Трофимыч.
– Человека засудили, – сказал Недоуздок и сердито сел за стол, положив на него локти.
– Ну, так и в трактире говорили, – заметил «папашенька».
На минуту все замолчали.
– Обманул! – прошептал Архип, замигав глазами, и вдруг как-то весь сократился еще больше.
Шабры давно уже ушли. Пеньковцы поужинали и собирались спать. Кто-то постучал в замерзлое окно.
– Не спите? – спросил голос с улицы.
– Нету. Входите, – откликнулся Лука Трофи-мыч. – Что бы это такое?
– Не в пору весть – худо, – сказал Еремей Горшок.
В это время в избу вошли, стуча сапогами, два земляка-фабричных и наскоро помолились в угол.
– Ну, молитесь, земляки, теперь и вы, – сказали фабричные. – Здравствуйте.
– А что так?
– Помер.
Пеньковцы поднялись и перекрестились.
– Упокой господь его душу! – произнес Лука Тро-фимыч.
– Не удостоился, значит! – заметил Савва Про-кофьич и вдруг пришел в какое-то особенное возбуждение и стал копаться в своем углу.
– Ему эта кончина от господа зачтется, – заключили фабричные.
Потом все помолчали немного и затем стали толковать о приготовлении к похоронам.
– А вас кто известил? – спросили пеньковцы.
– У нас там фершалок есть знакомый…
– Проститься-то допустят ли?
– Допустят. Этот самый фершалок нам большой благоприятель… Он нам все это честь честью устроит… Как, значит, званию вашему подобает… А то ведь там как хоронят!
Земляки ушли поздно.
А наутро, когда поднялись пеньковцы и стали собираться в больницу, вдруг заметили, что Савва Прокофьич не ночевал. Думали, не ушел ли он с земляками, но оказалось, что и мешка его нет. Пошли справиться у хозяина, не говорил ли он с ним. Но дворник только их же обругал, что они, не сказавшись, шляются по ночам и всякий народ к себе пускают; а после что пропадет – кляузы пойдут.
– За ваш пятиалтынный только греха не оберешься! – оборвал он, хлопнув дверью. – Неволя одна велит вас пущать-то…
– Ну, братцы, должно, справедливо это говорят: одна беда не ходит, – заметил Лука Трофимыч.
– И с чего бы это он? – раздумывал вслух Еремей Горшок. – Ах, Савва, Савва!
– А это вот все с твоих пустых слов, Еремей Гаврилыч, – ответил ему Лука, – ты все это про бегунов пророчил.
– Ну вот!.. Ври больше!.. Ведь это только у нас разговор был… Разве от этого что может?
– Раздумать это – дело нелегкое, – сказал угрюмо Недоуздок, сделавшийся вдруг почему-то много серьезнее и солиднее.
* * *До суда пеньковцы сходили попрощаться с Фомушкой.
А на другой день схоронили Фомушку. На похороны собрано было несколько рублей с «судебного персонала» и купцов-присяжных; об этом в особенности хлопотал «мундирный молодой человек». Гроб проводили крестьяне-присяжные, к которым примкнул и купеческий сын, постоянно остривший над «судейским положением», и земляки с завода. Фомушку наскоро и попросту «уложили на вечный покой» под мягкие, пуховые сугробы городского кладбища, покрестились и кстати, тихомолком, вспомнили о Савве Прокофьиче.
Скоро разошлись провожавшие гроб, а часа через два пошла погода, и от свежей могилы не осталось следа.
Эпилог
Стоял сильный мороз, не тот освежающий мороз, который бодрит дух и тело, но тот, который зовут костоломом, при котором тяжело дышать и в костях ощущается тупая боль. Воздух был сгущен, как будто в нем плавали застывшие пары. Наступали уже су мерки, когда у одного поворота с почтового тракта на проселок остановился обоз-порожняк. Около передовой лошади собралась кучка мужиков. Одни из них вынимали из саней мешки и вскидывали на спины, другие о чем-то говорили.
– Э, братцы, – говорил один мужик, – бог с ними!.. На их деньги не разживешься…
– Ну, ин, коли так… и то! – сказал другой и вскочил в сани. – Все, что ли, почтенные выбрали?
– Все. Невелико имущество, – отвечали седоки.
– Мы как рядились, так и поплатимся. Вы этим себя не стесняйте, – сказал один из седоков, высыпая на ладонь деньги из кожаного кошеля, висевшего у него на шее.
– Не-ету!.. Мало что там рядились!.. Это так, значит, больше для спокою… А грешить нечего! Он ведь, бог-то, видит! – резонировал первый возчик, берясь за вожжи. – А на полштоф – оно точно… Было бы не обидно… без греха… Мороз-то ведь тоже от господа, вишь какой!
– Ну, так получите. Спасибо вам, братцы. Кабы не вы, может, и не дошли бы в целости до дому.
– Все под богом… Счастдиво!
– Дай бог путь!
Так на пятнадцатый день, по отправлении в «округу», возвратились наши пеньковцы в свои родные палестины. Поправив на плечах мешки, они выступили на узкую, малонаезженную проселочную дорогу, по бокам которой тянулись неоглядною далью сугробы вплоть до «волости». Они шли торопливым шагом и молчали. Через полчаса ходьбы замигали вдали огни, на беловатом фоне снежной пустыни зачернели избы. Показалась «волость». Волостные псы приняли было с разных сторон поздних гостей громким лаем, пока первый встречный пес не учуял «своих» и, виляя хвостом, не подбежал к путникам, не обнюхал гладившую его заскорузлую ладонь и не переменил сердитого, сиплого лая на визгливое приветствие; поняли это и прочие псы и, смолкнув, снова позалезли за подворотни, как за единственную защиту этих неподкупных деревенских стражей от рыскающих в это время голодных волков.
– Гляньте, братцы, у старшины огонь. Надоть бы по-настоящему перво-наперво в волость объявиться, а там уж и домой. Успеем еще к бабам-то, – сказал Лука Трофимыч.
– Поздно, – заметил Бычков.
– Поспеешь. После когда еще собираться! А теперь оправим себя перед обчеством – и конец. Благо не спит старшина-то.
Пока они шли к волостному правлению, из изб уже выходили и смотрели, почесываясь, обыватели, поднятые с печей расходившимися было псами. Скоро на селе узнали, что кто-то прибыл в волость с новостями.
В «волости» старшина сидел у стола, за которым что-то бойко писал волостной писарь. Старшина то громко зевал, крестил рот, то от нечего делать поправлял, поплевывая на пальцы, нагар на сальной свечке или коптил печать и делал пробы на лоскутке бумаги. Видимо, ему было очень скучно, и он не знал, как дождаться, когда писарь подсунет ему бумагу и он приложит к ней обсаленную и накопченную волостную печать, предварительно, с помощью непослушных корявых пальцев, изобразив повыше ее: «Волостной старшина Парфен Силин», – единственные слова, которые его выучил писать писарь в продолжение трех лет; больше же – при всем к чести его относящемся усердии и желании – успехов в грамоте сделать он не мог, благодушно сваливая этот неуспех на свою седину.
– Ну-ну! – встретил весело старшина пеньковцев, очень довольный, что есть чем разогнать скуку. – Вот и пришли… Наши судьи-то!.. Ну, здорово! Садитесь. Теперь вы уж у нас в чинах-то повысились… Поди, к вам и подступу теперь нет!..
– Полно, Парфен Силыч!.. С чего ты? – шутили пеньковцы.
– А что? Знаем мы, брат, каково этой самой понюхать… чести-то…
– Это верно. Ну мы, одначе, не того…
– А что?
– Больше смирились.
– И то дело. И то хорошо.
– Верь им! Как же! – сказал через засунутое между губ перо писарь. – Ты вот посмотри, как они станут поговаривать! Видали мы, что значит мужик в чести!
– Смирились, друг, смирились. Это верно, – подтвердил Лука Трофимыч. – Не ведаем, как с другими от этой чести, а что мы, так, скажем, страх божий узнали.
– И за то возблагодарим создателя!.. А Недоуздок как? Обуздался ли? А?.. Как ты, Петра?
Недоуздок улыбнулся.
– Останешься доволен… насчет узды-то, – сказал он.
– Как можно! Петра у нас много обстоятельнее стал, – подтвердил и Лука Трофимыч. – А уж это на что лучше!
– На что лучше! – согласился и старшина. – Ну, рассказывайте теперь – как, что… Вишь, вон уж набралась деревня-то… Тоже, живя за сугробами, новому рады.
В правление уже, действительно, набились любопытные; все они улыбались и пристально всматривались в пеньковцев, как будто с последними должна была совершиться за две недели удивительная метаморфоза; тут же явились жены Бычкова и Еремея Горшка, так как они были из самого Пенькова.
– Что рассказывать? – сказали присяжные. – Всего не припомнишь сразу… Разве уж помаленьку как ни то, исподволь… А что несчастия наши вам известны…
– Да, что поделаешь!.. Все под богом! Его святая милость, – благочестиво заметил старшина, вообще большой любитель выражаться «от божественного». – Царство небесное рабу твоему Фоме!.. Себя дураками не оказали? В грязь лицом не ударили? Перед господом богом не сфальшивили?
– Кажись бы, нет. А что насчет господа бога… так кто ему, батюшке, не грешен, царю не виноват? Вот хоть бы Савва.
– Ну, Савва… что ж! Дело ваше было немалое… Всяко бывает!.. На каждый час не убережешься, – благодушничал старшина.
– Приобвыкнем.
– Это так. Раз не так, а другой – послужим…
– Достало ли кокурок-то? – спросила Ерему Горшка его баба. – Все я оченно сумневалася.
– А-ах, баба! – сказал старшина. – Ты бы спросила, в каких они дворцах сидели… А она – коку-рок!
– Почем знаешь! Думается, кто ж их в палатах-то кормить станет?
– А все ж, бабы, палаты палатами, а напредки больше пеките… Да одевайте теплее – вот что главное!
Старшина зевнул и перекрестил рот.
– И так… с господом! Спать, чать, хотите? А там после – обо всем прочем… Завтра вам честь будет: ко мне заходите… Завтра и об дворцах порасскажете…
– Там честь честью, а с Саввы взыскать штрафной суммы, по требованию окружного суда, в количестве десяти рублей, – проговорил скороговоркой писарь и повернул перед старшиной бумагу.
– Ваше дело, – заметили пеньковцы.
– Наше дело при нас останется… А учить вас тоже нужно… Копти! – сказал он старшине, подсовывая печать.
Пеньковцы сдали отчет и разошлись по домам.
Прошел месяц – и все забыли о чести «судейского положения», поглощенной общинною равноправностью. Только за Саввой Прокофьичем надолго осталось прозвище «судейщика», которым окрестили его деревенские ребятишки. Поводом к этому послужило его странное поведение после бегства из округи. Он как пришел в свою деревню, так и не выходил с тех пор из избы, и, при всех убеждениях, старшина не мог его вызвать на разговор, разузнать что-либо. Ребятишки долгое время засматривали любопытно в промерзшие окна к «судейщику» и созидали по поводу его «отшельничества» разнообразные легенды. Одна из них с большою убедительностью рассказывала, как «судейщик спасается». Действительно, едва наступила весна, Савва Прокофьич пришел в первый раз в волость, чтобы выхлопотать паспорт, он отправлялся на богомолье в Соловки.
Примечания
Николай Николаевич Златовратский родился 14 (26) декабря 1845 года в г. Владимире. Его отец, Н. П. Златовратский, мелкий чиновник канцелярии губернского предводителя дворянства, был сыном бедного сельского дьякона Николо-Златовратской церкви, от названия которой, как считают, произошла фамилия писателя.