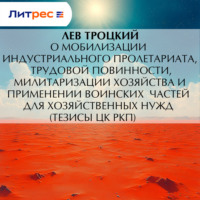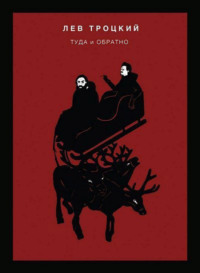полная версия
полная версияСоветская республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война
Рабочий знает, что такие коренные вопросы не разрешаются голосованием, поднятием и опусканием рук и другой парламентской гимнастикой, что имущие классы не отдадут без боя своих позиций, а взять их можно лишь силой, грудь против груди, сталь против стали, кровь против крови. Рабочий это знает, крестьянина же сбивали с толку.
Но вот тут в Самаре, на всем Поволжье история произвела гигантский опыт по просветлению сознания самых отсталых масс. Здесь заседала учредилка,[52] т.-е. Колчак, дутовцы и та промежуточная группа интеллигенции, которая путается между помещиками и крестьянами, крестьянами и рабочими. И вот эта-то промежуточная, никчемная, межеумочная эсеровско-меньшевистская группа и является носительницей идеи Учредительного Собрания. Колчак знает, что дело – в материальной силе. Деникин тоже знает, и мы это знаем. Они же думают, что дело в чарах Чернова, Авксентьева и других величин парламентарной демократии. Здесь история произвела опыт. Они оторвались от нас, свое Учредительное Собрание оторвали от рабочего класса и крестьянской бедноты, и шли в обозе в качестве нестроевой команды в армии у Колчака, в армии у Дутова, и составляли там отряд, который был посредником между черносотенцами и белогвардейцами, – белое и черное здесь одно и то же – с одной стороны, и между трудовыми массами, с другой. Лозунгами Учредительного Собрания, идеей демократии они помогли Колчаку создать армию. Колчак – авантюрист, бывший царский адмирал, который искал помощи у немцев, перешел на американскую службу, ездил в Нью-Йорк, получил свои сребреники и прибыл сюда. Это – чистый тип авантюриста без вчерашнего и – не будем сомневаться! – без завтрашнего дня. Этот авантюрист не имел бы успеха, если бы вокруг него не было создано декораций Учредительного Собрания. А когда эти декорации помогли ему создать армию, тогда он сказал Чернову и Авксентьеву: «раб сделал свое дело – пошел вон».
И выполнивши свою работу, учредиловские рабы разбежались в разные стороны. Авксентьев отправился во Францию и Англию выпрашивать помощи у европейского империализма против нас. Чернов со своими единомышленниками, со всем президиумом священнейшего Учредительного Собрания постучался в ворота нашего советского дома и просил нас пустить его, ибо ему невтерпеж стало больше в той атмосфере, которую создало Учредительное Собрание.
И это большой урок, товарищи, для самых отсталых и темных масс. Лучшего урока, более яркого урока, хотя и оплаченного дорогой ценой, нельзя было желать и требовать. Постучитесь теперь к русскому крестьянину, у которого мозги сколько-нибудь шевелятся в голове, и спросите его: «ну что же Учредительное Собрание, пойдешь под его знаменем?» Что должен ответить крестьянин, который сколько-нибудь следил за жизнью страны? Он должен ответить: «я видал это знамя в Самаре, я видал его в Екатеринбурге, в Уфе, я видел, как это знамя пошло Колчаку на портянки».
Итак, самые авторитетные носители этого знамени, господа с.-р., искали потом приюта – где? Да там, где революция сохранилась, потому что рабочий класс там не обольщался формальными внешними идеями демократии, а сказал, что защита революции – это организованный вооруженный рабочий класс, который берет в свои руки власть, у каждой двери ставит своего вооруженного часового и говорит: «в этот дом насильникам и прохвостам хода нет».
Таким образом, товарищи, со стороны внутреннего развития у нас были подъемы и понижения, наступления и отступления, но в общем и целом история великолепно работала за нас, разрушая все старые предрассудки. И результат этой работы мы видели как раз во время последних крестьянских восстаний, которые происходили внутри страны, которые поднимались прямыми агентами Колчака, поддерживались кулаками, но вовлекали в свой водоворот в некоторых местах значительные группы среднего крестьянства, вследствие того, что крестьянство чувствует, что трудно жить, но не всегда разбирается, где правильный выход.
Но какой же лозунг выдвигали участники восстаний? Если в начале первой, Февральской, революции они еще выдвигали лозунг за царя, то дальше они этот лозунг скинули со счетов. Они узнали, что с ним подходить к сколько-нибудь широкой массе нельзя, и переняли у с.-р. лозунг Учредительного Собрания. Ведь за учредилку были тогда Краснов, Деникин, – все, кто только мечтал о восстановлении помещичьей самодержавной власти; являясь перед лицом народа, они надевали на себя маску Учредительного Собрания. От этой маски теперь ничего не осталось. И вот почему во время последних восстаний, здесь, в тылу Восточного фронта, контрреволюционные агитаторы выдвигали уже лозунги: не «да здравствует Учредительное Собрание», – а «да здравствует Советская власть», но «долой партию коммунистов», «долой инородцев» и т. д. Но лозунга «долой Советскую власть» они выбросить не посмели, и везде, – у меня есть довольно много и печатных и рукописных воззваний, распространявшихся белогвардейцами в Симбирской и Казанской губерниях, – они подделывали наши лозунги и наши организации. У них появляется свой штаб, в котором есть и военный комиссар и военный руководитель, честь-честью, как полагается по декретам Советской власти. Стало быть, глубоко в сознание крестьянских масс проникли идеи Советской власти, если обмануть крестьянина, поднять его на восстание можно не иначе, как выступая со знаменем Советской власти в руках…
Вот к чему мы пришли в результате последних восстаний. Я по этому поводу докладывал на днях в Московском Совете и вспоминал там о том, как 50 лет назад, или около этого, когда наши русские революционеры представляли собой еще ничтожную и слабую кучку, а крестьянство было насквозь пропитано религиозными и монархическими предрассудками, – возникло известное чигиринское дело, во главе которого стоял покойный товарищ Стефанович, тогда еще неопытный юноша, сделавший очень рискованный шаг. Возглавлявшаяся им группа революционеров обратилась к крестьянству с поддельной грамотой от имени царя, – эта грамота называлась золотой и имела большую золотую печать.[53] Что это означало? Это означало крайнюю слабость революционеров и большую силу монархических предрассудков в крестьянских массах. Этот шаг был осужден всеми революционерами, потому что, как бы революционеры ни были слабы, они никогда не имеют права подделываться под ложные взгляды народных масс. В чем сила революционной партии? Да в том, что мы просветляем и просвещаем сознание трудящихся масс. Революционная партия никогда – ни в минуту удачи, ни в минуту неудачи, ни в часы силы, ни в часы бессилья, слабости – не имеет права, никогда и ни в чем, лгать и обманывать трудовые массы.
Вот почему революционная партия, как я сказал, осудила эту авантюру группы слабых революционеров. Но, товарищи, если 50 лет тому назад мы видели молодую и слабую революционную партию, делавшую ложные шаги, то теперь перед нами – последняя азартная ставка издыхающей контрреволюции. У нее нет идейной почвы под ногами. Она вынуждена становиться на нашу почву.
Вот почему левые с.-р., которые считают себя не учредиловской, а советской партией, теперь образуют прикрытие для контрреволюции. Как в предшествующий период это было с правыми с.-р., которые давали Колчаку на подержание, на прокат знамя Учредительного Собрания, так теперь левые с.-р. дают тем же самым колчаковским агитаторам и всем вообще контрреволюционерам на подержание поддельное знамя Советской власти.
Стало быть, эти восстания дали нам возможность узнать свою величайшую идейную и организационную силу. Но вместе с тем, разумеется, восстания были и признаком нашей слабости, ибо они вовлекли в свой водоворот, как я упомянул, не только кулаков, но и – не нужно себя обманывать на этот счет – известную часть среднего промежуточного крестьянства. Объясняется это общими причинами, которые мною были обрисованы, – отсталостью самого крестьянства. Но не нужно, однако, все валить на отсталость, ибо Маркс когда-то сказал, что у крестьянина есть не только предрассудок, но и рассудок, и можно от предрассудка апеллировать, взывать к рассудку крестьянина, подводить его на опыте к новому строю, чтобы крестьяне чувствовали на деле, что они в лице рабочего класса, его партии, его советского аппарата, имеют руководителя, защитника; чтобы крестьянин понимал наши вынужденные реквизиции, принимал бы их, как неизбежность; чтобы он знал, что мы входим во внутреннюю жизнь деревни, разбираемся, кому легче, кому тяжелее, производим внутреннюю дифференциацию, расслоение, и ищем теснейшей дружеской связи с крестьянами-середняками.
Это нам нужно, прежде всего потому, что до тех пор, пока в Западной Европе не стал у власти рабочий класс, пока мы левым нашим флангом не имеем возможности опираться на пролетарскую диктатуру в Германии, во Франции и в других странах, – до тех пор правым нашим флангом мы вынуждены опираться в России на крестьянина-середняка. Но не только в этот период, нет, и после окончательной, неизбежной и исторически обусловленной победы рабочего класса во всей Европе перед нами в нашей стране останется важная огромная задача социализации нашего сельского хозяйства, превращения его из раздробленного, отсталого, мужицкого хозяйства в новое, коллективное, артельное, коммунистическое. Разве может быть этот величайший в мировой истории переход совершен против желания крестьянина? – Никаким образом. Здесь нужны будут не меры насилия, не меры принуждения, а меры педагогические, меры воздействия, поддержки хорошим примером, поощрения, – вот методы, какими организованный и просвещенный рабочий класс разговаривает с крестьянами, с крестьянами-середняками.
И на Дону, товарищи, когда наши красные полки, освободители от власти Краснова, встречались с казачьими низами, – там спрашивали наших комиссаров-коммунистов: «а как же будет дальше? Вы все теперь бросите в общий котел? А у нас все отнимете и передадите в коммуну?». Те комиссары, которые лучше понимали смысл коммунистической политики, отвечали им: «Нет, насилие мы применяем только по отношению к капиталистам, эксплуататорам, помещикам и деревенским кулакам, эксплуатирующим чужой труд для наживы и спекуляции хлебом. Что касается середняка, в том числе и казака-середняка, то по отношению к ним мы будем применять методы идейного воздействия, т.-е. мы будем поощрять создание коммунистического хозяйства. Этим хозяйствам государство будет приходить на помощь агрономическими знаниями, научной, денежной, технической помощью, и пусть попробуют отдельные частные хозяйства соперничать с коммунистическими!». Тогда казаки, сомневающиеся казаки, проникнутые чувством мелкого собственника, говорили, почесавши в затылке: «Что ж, это не плохо. Мы посмотрим, – если у вас коммуна пойдет хорошо, и мы перейдем на то же положение».
Вот это единственно правильный метод пролетариата, стоящего у власти: видеть в крестьянине союзника и по этой линии направлять всю свою политику в деревне. Те восстания, которые были здесь в Поволжье, дали нам предостережение и предостережение вдвойне грозное, потому что на Западе пролетариат еще не у власти. Ошибки всегда плохи, но когда мы будем сильны победой пролетариата на Западе, наши ошибки будут менее опасны, – сейчас же они опасны, тем более, что тут не только ошибки, но сплошь и рядом прямые преступления. Советская власть есть власть. Власть открывает для отдельных лиц возможность всяких привилегий, незаконной наживы и обогащения, барышей и насилия, и к Советской власти неизбежно прилипли в разных местах элементы глубоко развращенные. Разумеется, есть много работников, которые при старом строе жили в известной среде и верили в старое, но увидали новое и перешли на нашу сторону, как честные люди, понявшие правду. А есть очень много таких прожженных прохвостов, которые при старом строе держались старой точки зрения, потому что это было выгодно, и которые при любом режиме готовы перекраситься в любую краску, молиться любому богу, – как в одной из старых драм сказано, что старый царедворец Остерман сперва помолится русскому богу, потом турецкому, потом немецкому, а потом всех трех и обманет.
Так вот, товарищи, и на верхах и на низах к Советской власти прилипли элементы, глубоко чуждые коммунистической политике, чуждые духовно и нравственно трудящимся массам, – и, смотрите, кое-где в уездах, волостях они ведут себя по отношению к крестьянам так, как вели себя в старину исправники, пристава, урядники, стражники и земские начальники. Кое-где крестьяне буквально в неистовстве, в бессильном протесте берут в руки дубину, вилы и отправляются взрывать рельсы, мосты, подбиваемые на это контрреволюционными агитаторами. Так, мне показывали в Казанской губернии документы относительно Сенгилеевского уезда, где крестьяне подвергались невероятным заушениям со стороны кое-каких маленьких советских чиновников, именно чиновников, а не советских работников, которые должны обслуживать нужды крестьян, которые против прямого врага должны применять открытое насилие, но к малосознательным крестьянам относиться, как к друзьям. Здесь же были старые царские приемы, старый гнет и насилие. И когда я эти документы прочитал, я спросил, что же с ними сделали. Я сказал, что, будь я в вашем трибунале, я бы созвал крестьян Сенгилеевского уезда, вызвал бы, с одной стороны, тех подлейших агентов Колчака, которые их подбивали к разрушению ж. д., а, с другой стороны, вот этих, будто бы советских, прохвостов, которые, пользуясь именем Советской власти, угнетали крестьян, – и одним и тем же взводом красноармейцев расстрелял бы и тех и других.[54]
Товарищи, отдадим себе ясный отчет в этом предостережении. Посмотрим и проверим наши советские ряды, очистим их от всех чужеродных элементов и заставим крестьян понять, что для них выход один – это переваливать вместе с рабочим классом через трудный перевал, у подошвы которого мы сейчас находимся. Ибо если внутреннее положение наше трудно, а в голодные месяцы весны и лета будет еще труднее, и эта трудность будет использована всеми нашими врагами, – то зато наше международное положение становится все лучше и лучше и открывает перед нами все более светлые и радужные перспективы.
Товарищи, я начал с описания Брест-Литовского мира, самой тяжелой и черной страницы в истории Советской власти. Вы все, вероятно, помните, как улюлюкали по нашему адресу все так называемые патриоты, которые говорили и о подкупе и о предательстве. Это были ужасные недели и месяцы, когда Советская власть обнаружила свое бессилие. У нас не было армии – старая армия рассыпалась, запрудила наш транспорт и разрушила хозяйство, а новой армии не было, – и мы вынуждены были подводить итоги войны, в которой царская армия потерпела ужасающее поражение. Мы должны были платить по старым царским и милюковским векселям. Это обрушилось на нас.
И когда мы с вами тогда говорили: «подождите, будет и на нашей улице праздник: германская революция разразится, германский кайзер не вечен», – как издевались по нашему адресу эти мудрецы, они говорили: «вы кормите русский народ баснями, улита едет, когда-то будет», и «пока солнце взойдет, роса очи выест». Больше того, немецкие меньшевики и с.-р., Шейдеманы и Эберты в своих газетах за десять дней до германской революции писали: «большевики сознательно обманывают русский народ, рассказывая о революции в Германии, у нас революции не будет». За десять дней до германской революции они писали эти строки. Наши русские меньшевики их цитировали, писали об этом, ссылаясь на их мнение, на их суждение. Товарищи, и здесь, как и в вопросе об Учредительном Собрании, история работала на славу и поспешила опровергнуть шарлатанские заверения меньшевиков. Германская революция разразилась.
В Брест-Литовске мы были раздавлены, там против нас сидели барон Кюльман, граф Чернин, – представители Гогенцоллернов и Габсбургов, и, товарищи, нужно было бы, чтобы вы все поглядели на них так близко, как я на них глядел… Впрочем, не пожелаю вам хоть на полчаса пережить то, что нам приходилось переживать перед лицом этих дипломированных, патентованных, сиятельных дипломатических тупиц Гогенцоллерна и Габсбурга.
А они, товарищи, смотрели на нас так, как какая-нибудь барыня глядит на заморское растение.
«Вот, мол, что довелось увидать на своем веку… Советская власть. Ну что же, надо поспешить на нее посмотреть, ибо предсказано точно, что погибнуть ей на той неделе в четверг».
И барон Кюльман и граф Чернин – люди, конечно, высокой полировки; в официальных разговорах они только намекали, а в частных прямо говорили, что "подписывать мир будете вы, а выполнять его будут другие, – те, кто придет вам «на смену», т.-е. те, кто почище, т.-е. буржуазные солидные правители, а, может быть, и монархия, те же Романовы. Они были совершенно убеждены в этом. И когда этот наглый граф Мирбах, не тем будь помянут покойник, приходил ко мне в военный комиссариат, разумеется, без всякого приглашения, – это происходило в мае месяце прошлого года, когда чехо-словаки восстали на востоке, а немцы наступали на юге, вся Украина была в их руках, Скоропадский уже сидел в седле и думал, что сидит твердо, – в это проклятое время граф Мирбах спрашивал меня с высоты своего величия: «что же, когда будете прощаться с Россией?…»
По долгу вежливости я пытался уклониться и ответил в том смысле, что знаете, мол, граф, в наше переменчивое и тревожное время устойчивых правительств вообще нет. На что он мне со всей наглостью прусского юнкера повторил: «Нет, я говорю о вашем правительстве». Тут, позабыв всякий долг вежливости, я бросил: «поверьте, граф, что наше правительство покрепче кое-каких наследственных правительств».
И нужно было бы, товарищи, вам видеть физиономию графа Мирбаха. Это было как раз в тот день, когда в голодной Москве контрреволюция во время крестного хода хотела вызвать столкновения на улицах: по Москве вдоль Кремля шли крестные ходы, а граф Мирбах, глядя в окно – разговор происходил в третьем этаже – повторял: «все, все кругом шатается».
И вот, когда я сказал, что наше правительство покрепче кое-каких наследственных, он взглянул на меня, как на сумасшедшего человека, забывшего все законы, божеские и человеческие.
Много ли времени прошло с того дня – ведь года не прошло, но что такое год в истории народов? – а где теперь граф Мирбах? Он, правда, был убит, но где сейчас германский кайзер? – он сидит в Голландии, где-то взаперти и не смеет показаться к себе в страну. А барон Кюльман и граф Чернин, с которыми мы заседали там в Брест-Литовске? А германская монархия? – От нее не осталось и следа. Германская армия? – Ее нет, она рассыпалась в прах. А германский рабочий класс? – Он борется за власть.
Австро-венгерская монархия разбита, раздроблена. Где австро-венгерский император Карл? Он где-то прячется. Граф Чернин? – где-то скрывается. А Советская власть существует и в Москве, и в Петрограде, и в Самаре, и везде она во сто раз прочнее, чем была год тому назад.
Нам угрожали тиски англо-французского империализма, и был момент, когда эти тиски, казалось, грозили нас смертельно зажать. После победы над Германией не было предела всемогуществу англичан и французов. Более того, сама германская буржуазия вместе с Гинденбургом охотно шла на службу к Франции и Англии для подавления большевиков. У меня есть свежие немецкие газеты, где прямо говорится в ряде передовых статей: "на западе, т.-е. на границе между Германией и Францией, возвышаются стены из бетона и чугуна – стены старой национальной ненависти между Францией и Германией. Но это все ничтожно по сравнению с той пропастью, какая отделяет нас на востоке. С Францией мы должны так или иначе прийти к соглашению, но с большевиками, но с Советской властью – никогда. Это другой миропорядок, они отрицают – так прямо и сказано – «они отрицают всякие основы хозяйственной жизни и частную собственность» и – прибавим от себя – порядок, на котором основан священнейший барыш. Борьба с Англией и Францией, старые крепости Бельфор, Верден, – все это ничтожно по сравнению с той ненавистью, которую мы внушаем объединенному европейскому капиталу. Таково признание германской буржуазии, придавленной, униженной, ограбленной, которая и сейчас, извиваясь под пятой французской и английской буржуазии, говорит: «а все же ты мне ближе, ты мне роднее, чем эта страшная советская коммунистическая республика». Вот чувство, какое они к нам питают в Германии, во Франции, в Англии, везде.
Правда, вы можете сказать, что, когда Англия и Франция предлагали поездку на Принцевы острова, Советская власть согласилась на такую поездку, и согласилась сейчас, как тогда в Брест-Литовске, потому, что мы готовы использовать всякую возможность, для того чтобы сократить наш фронт, завоевать перемирие, передышку, облегчить тяготы нашей Красной Армии и всего рабочего народа. Разумеется, мы поехали бы на Принцевы острова, как мы ездили в Брест-Литовск, не из симпатии, уважения и доверия к Клемансо, Ллойд-Джорджу и к этому старому заокеанскому ханже и лицемеру Вильсону, – нет, товарищи, на этот счет Клемансо, Ллойд-Джордж и Вильсон, как раньше Гогенцоллерны и Габсбурги, не заблуждаются ни на один час, они знают, что мы к ним питаем те же самые чувства, какие они питают к нам. Мы связаны с ними внутренней ненавистью, внутренней смертельной враждой, и соглашение с ними диктуется только холодным расчетом и является по существу своему временным перемирием, после которого борьба неизбежно разразится с новой силой.
Раньше казалось, что нас задушат, потом нам предложили Принцевы острова, потом перестали об этом говорить. Почему? – Потому что Колчак, Деникин, Краснов и Маннергейм в Финляндии заявили империалистической бирже: «дайте нам срок, дайте нам еще два-три весенних месяца, Советская власть будет задушена, и вам не понадобится с ней договариваться на Принцевых островах». На это Ллойд-Джордж отвечал: «вы нам обещали это давно. Раньше всех обещал Милюков, потом Керенский, Скоропадский на Украине, потом Краснов, теперь Краснов бежал из Ростова, его сменил Богаевский, – вы все обещали. Колчак давно обещал Америке. Мы вам помощи войсками больше не дадим, у нас положение на севере и на юге становится все хуже и хуже». Тогда Колчак, Деникин и другие отвечали: «мы просим, мы умоляем дать нам хоть небольшой срок, чтобы покончить с Советской властью. Не вступайте же с ней в переговоры, не укрепляйте ее положения. К весне мы подготовим широкое наступление».
И вот оно наступило – это весеннее наступление. Союзники в течение всей зимы давали денег, снаряды. Они не давали живой силы, ибо боялись впутаться слишком глубоко в наши дела, увязнуть в нашей советской равнине, ибо на опыте Германии увидали, что к нам в Россию войска империалистов вступают под трехцветным знаменем империализма и насилия, а отсюда, из Советской России, те же войска уходят под красным знаменем коммунизма.
Они согласны давать оружие, деньги, винтовки, сребреники, но уводят своих солдат.
Во Франции руководящая газета «Тан» («Время») и в Англии газета того же названия «Таймс» открыто говорят о том, что из Одессы уводят французские войска потому, что после падения Николаева и Херсона положение десантной армии в Одессе стало слишком опасным. Так прямо и говорят об этом в европейской печати. У меня есть телеграмма, полученная сегодня или вчера, относительно положения союзнических войск на севере России, – не знаю, была ли она опубликована в печати: «Америка. Радио из Парижа для Канады. Невольное волнение, охватившее британские круги относительно серьезной опасности уничтожения, грозящей архангельской экспедиции, только подтвердило мнение американских военных, высказанное много месяцев тому назад. Прибавились новые яркие факты, а именно: бунт финских войск в Архангельске».
Американцы и англичане мобилизовали или вернее привлекли к себе финские полки, когда немцы занимали Финляндию. Англичане выступали, как освободители финнов от германского империализма. Теперь американское радио из Парижа сообщает открыто о бунте финских солдат в составе англо-американской армии на нашем северном побережье: «Бунт финских войск, грозящий отрезать единственный путь наших солдат, а также концентрация большевиками боевых судов на Двине и Ваге доказывает их готовность к атаке. Люди из Канады составляют главную часть отряда в этом месте. Официальные лица признают, что нет ни малейшей надежды усилить их состав до большевистского нападения».
Лондонская «Дейли-Мейль» говорит в передовой статье: «ответственность за опасность лежит на союзниках. Они послали эту союзную армию и отказались отозвать ее обратно. Это они сделали с полным сознанием и совершенно пренебрегли опасностью, угрожающей армии, несмотря на предостережения со стороны солдат и моряков. Взоры всего мира обратятся к ним, если они попадут в руки врагов, так как их судьба будет ужасна» и пр., и пр. Разумеется, это наглая ложь. Если они попадут к нам в руки, мы поступим с ними так, как поступили с теми сотнями, а теперь вероятно уже тысячами французов, англичан и американцев, которые взяты нами в плен на Украине и на севере. Мы их посадили на школьную скамью и дали им преподавателей, французов и англичан-коммунистов, и они делают превосходные успехи.