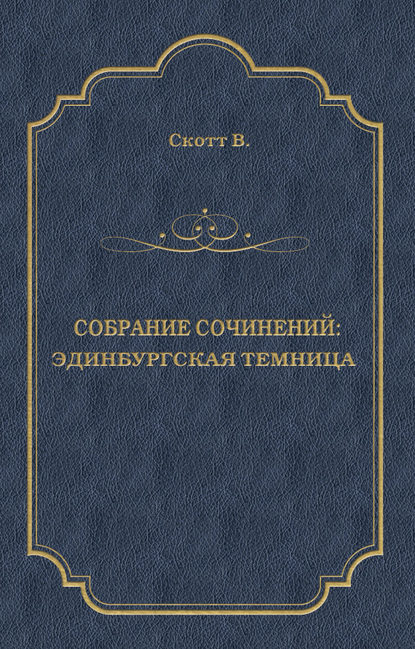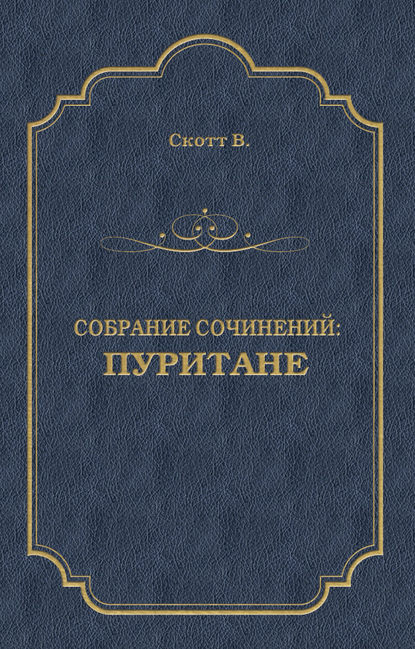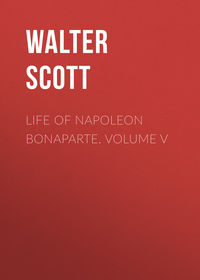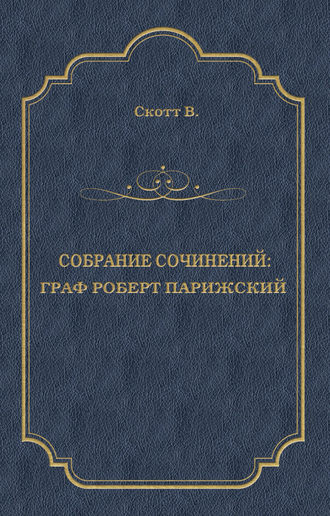
Полная версия
Граф Роберт Парижский
– Оставь его в покое, – сказал воин, который действительно был главным телохранителем, или, как его называли, аколитом, ибо обязанностью этого облеченного высокими полномочиями начальника варяжской гвардии было постоянно сопровождать особу императора. – Давай лучше посмотрим, каким образом нам вернуться в город, потому что, если, как я подозреваю, эту шутку сыграл с тобой один из стражников, его товарищи могут не захотеть добровольно пропустить нас.
– А разве для тебя не дело чести до конца расследовать такое нарушение порядка?
– Помолчи, мой простодушный дикарь! Я часто говорил тебе, невежественный Хирвард, что мозги тех, кто явился сюда с севера, из холодной и грязной Беотии{36}, скорее вынесут двадцать ударов кузнечным молотом, чем изобретут какой-нибудь ловкий и хитроумный ход. Слушай меня внимательно, Хирвард. Конечно, я хорошо понимаю, что разоблачать тайны греческой политики перед столь неискушенным варваром, как ты, все равно что метать бисер перед свиньями, а Святое Писание предостерегает нас от этого; тем не менее, поскольку у тебя такое доброе и верное сердце, какое нечасто сыщется даже среди моих варягов, я воспользуюсь случаем – ты ведь должен сегодня сопровождать меня – и познакомлю тебя с некоторыми сторонами этой политики. Я сам, главный телохранитель, начальник над всеми варягами, возведенный их непобедимыми алебардами в сан доблестного из доблестных, руководствуюсь ею, несмотря на то что у меня есть все возможности вести свою галеру против дворцовых течений с помощью одних лишь весел и парусов. Да, я снисхожу до политики, хотя ни один человек при императорском дворе, этом средоточии блистательных умов, не смог бы, пустив в ход открытую силу, добиться того, чего легко достиг бы я. Что ты по этому поводу думаешь, мой добрый дикарь?
– Я знаю одно, – ответил варяг, следуя за своим начальником в полутора шагах сзади, как положено и в наши дни идти вестовому за своим офицером, – мне было бы жаль ломать себе голову над тем, что можно решить в два счета с помощью рук.
– Ну не прав ли я был? – сказал главный телохранитель, который уже несколько минут шагал вдоль наружной, залитой лунным светом городской стены, внимательно вглядываясь в нее, словно не рассчитывая больше на то, что Золотые ворота открыты, и отыскивая другой вход. – Вот видишь, чем набита твоя голова вместо мозгов! По сравнению с головами ваши руки – настоящее совершенство. Слушай же меня, самое невежественное из всех животных и именно поэтому – надежнейший из наперсников и храбрейший из воинов: я открою тебе секрет нашей сегодняшней ночной прогулки, хотя не уверен, что ты все поймешь даже после моих объяснений.
– Мой долг стараться понять твою доблесть, – ответил варяг, – вернее – твою политику, раз уж ты так снисходительно стараешься растолковать ее мне. Что касается твоей доблести, – добавил он, – то хорош бы я был, если бы не знал ее вдоль и поперек.
Греческий военачальник слегка покраснел, однако голос его не дрогнул:
– Это правда, мой добрый Хирвард, мы видели друг друга в бою.
Тут Хирвард не сдержался и легонько кашлянул.
Грамматикам того времени{37}, столь изощренным в искусстве разгадывать смысл интонации, этот кашель не показался бы панегириком храбрости грека. Действительно, несмотря на то, что командир на протяжении всей их беседы тоном своим то и дело подчеркивал свое высокое положение и превосходство, в этом тоне чувствовалось явное уважение к собеседнику, как к человеку, который в минуту опасности во многих отношениях может проявить себя более храбрым воином, чем он сам. С другой стороны, хотя могучий северный воин отвечал своему начальнику, соблюдая все правила дисциплины и этикета, беседа их порой напоминала разговор между невежественным франтом офицером и опытным сержантом того же полка, – речь идет, разумеется, о том времени, когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским{38}. В каждом слове северянина звучало чувство собственного превосходства, прикрытое внешней почтительностью, и начальник молчаливо признавал это превосходство.
– Ты позволишь мне, мой простодушный друг, – продолжал главный телохранитель прежним тоном, – вкратце ознакомить тебя с основным принципом политики, который господствует при константинопольском дворе. Дело в том, что милость императора, – тут он приподнял шлем, а варяг сделал вид, что повторяет его движение, – который (да будет благословенна земля, по коей он ступает!) является не менее животворным началом для своих подданных, чем солнце – для всего рода человеческого…
– Я уже слышал что-то в этом роде от наших ораторов, – заметил варяг.
– Они обязаны поучать вас, – ответил начальник, – и я полагаю, что священники, произнося свои проповеди, также не забывают наставлять моих варягов в верности и преданности императору.
– Нет, не забывают, только мы, изгнанники, сами знаем свой долг.
– Видит бог, я не сомневаюсь в этом, – сказал главный телохранитель. – Просто хочу, чтобы ты понял, мой дорогой Хирвард, что есть такие насекомые – впрочем, в вашем суровом и мрачном климате их, быть может, и не существует, – которые рождаются с первыми проблесками света и гибнут с заходом солнца. Мы называем их эфемерами, поскольку они живут всего лишь один день. Такова же и участь придворного фаворита, который живет в лучах улыбок священной особы императора. Счастлив тот, кто попал в милость с той минуты, когда император, подобно светилу, появившемуся из-за горизонта, впервые взошел на трон, кто потом сверкал отраженным светом императорской славы, кто сохранил свое место, когда эта слава достигла зенита, кто исчез и умер вместе с последним лучом императорского сияния.
– Твоя доблесть, – прервал его островитянин, – говорит столь высоким слогом, что моим северным мозгам трудно все это понять. Только, по-моему, чем избирать такую долю – жить до захода солнца, так уж я, будь я насекомым, предпочел бы родиться мошкой и просуществовать два-три часа в темноте.
– Таковы, Хирвард, низменные желания людей ничтожных и обреченных на жизнь ничем не выдающуюся, – с напускным высокомерием произнес главный телохранитель, – мы же, люди, отмеченные печатью высоких достоинств, составляющие ближайшее, избраннейшее окружение императора Алексея, где он является центром, мы с женской ревностью следим за тем, как он раздает свои милости, не упуская возможности, то объединяясь, то выступая друг против друга, выдвинуться и удостоиться его ясного взора.
– Пожалуй, я понял, о чем ты говоришь, – сказал Хирвард, – хотя жить такой жизнью, полной интриг… Но, конечно, это к делу не относится…
– Конечно, не относится, мой добрый Хирвард, – ответил главный телохранитель, – и счастье твое, что тебя не тянет к такой жизни. И все же я видел варваров, которые достигали высоких постов при императорском дворе, хотя им и не хватало гибкости или, скажем, эластичности, не хватало счастливой способности применяться к обстоятельствам… Так вот, повторяю, я знавал представителей варварских племен – большей частью это были люди, с детства воспитанные при дворе, – которые при небольшой гибкости обладали столь непреклонной силой характера, что, будучи не слишком способными использовать обстоятельства, сами с необыкновенным талантом эти обстоятельства создавали. Однако довольно сравнений. Итак, тебе должно быть понятно, что в этой погоне за славой, то есть за монаршей милостью, приближенные благословенного императорского двора стараются всячески выделиться и показать государю, что каждый из них не только превосходно справляется со своими обязанностями, но и может в случае необходимости заменить других.
– Да, теперь мне все понятно, – сказал англосакс. – Выходит, что высокопоставленные придворные, военачальники и помощники государственных деятелей постоянно заняты не тем, чтобы помогать друг другу, а тем, чтобы шпионить за своим соседом?
– Совершенно верно, – ответил начальник, – и не далее как несколько дней назад я получил бесспорное доказательство этому. Любой придворный, как бы глуп он ни был, знает, что великий протоспафарий{39} – таков титул главнокомандующего всеми военными силами империи, – тебе это, разумеется, известно, – так вот, он ненавидит меня, ибо я являюсь начальником грозных варягов, которые заслуженно пользуются привилегией не подчиняться его беспредельной власти, распространяющейся на все войсковые соединения, хотя Никанору{40}, несмотря на его столь победоносно звучащее имя, власть эта не больше подходит, чем седло – волу.
– Вот как! – воскликнул варяг. – Значит, протоспафарий хочет командовать благородными изгнанниками? Клянусь знаменем красного дракона, под которым мы сражаемся и умираем, мы не станем подчиняться ни единой живой душе, кроме самого Алексея Комнина и наших начальников!
– Это ты сказал правильно и смело, мой добрый Хирвард, – заметил главный телохранитель. – Но, и предаваясь справедливому негодованию, смотри не забывай при упоминании имени благословенного императора прикладывать руку к шлему и перечислять его титулы.
– Твоя рука будет подниматься достаточно часто и достаточно высоко, когда этого потребует служба императору, – заявил северянин.
– В этом я могу поклясться, – сказал Ахилл Татий, начальник варяжской императорской гвардии, решив, что сейчас неподходящее время для того, чтобы требовать точного соблюдения этикета, хотя знание этого этикета он считал своей важнейшей воинской заслугой. – И все-таки, сын мой, если бы не постоянная бдительность вашего начальника, благородные варяги были бы попраны и растворились бы в общей массе армии, среди всех этих языческих когорт гуннов, скифов или предавшихся нам нечестивых турок в тюрбанах. И теперь вашему начальнику угрожает опасность именно из-за того, что он требует, чтобы его алебардщиков оценивали выше, чем жалких скифских копьеносцев и вооруженных дротиками мавров, чье оружие годится только для детских игр.
– От любой опасности, – сказал воин, доверительно придвигаясь к Ахиллу Татию, – тебя защитят наши алебарды!
– Разве я когда-нибудь сомневался в этом? – сказал Ахилл Татий. – Но сейчас главный телохранитель благословенного монарха доверяет свою безопасность тебе одному.
– Я сделаю все, что подобает воину, – ответил Хирвард. – Решай, как действовать дальше, и не забудь, что я один стою двух любых воинов из других отрядов императора.
– Слушай дальше, мой храбрый друг, – продолжал Ахилл Татий. – Этот Никанор осмелился бросить тень на нашу благородную гвардию, обвинив ее воинов – о боги и богини! – в том, что на поле боя они похитили и – что еще святотатственнее! – выпили драгоценное вино, приготовленное для самого святейшего императора. В присутствии священной особы императора я, как ты сам понимаешь, не мог промолчать…
– Понимаю, ты хочешь загнать ему эту ложь в его наглую глотку! – воскликнул варяг. – Ты назначил ему встречу где-нибудь в окрестностях и взял с собой своего ничтожного подчиненного Хирварда из Гемптона{41}, который за такую честь будет твоим рабом до конца дней! Только почему ты не сказал мне, чтобы я взял с собой обычное оружие? Однако со мной алебарда и…
Тут Ахилл Татий улучил момент и прервал своего спутника, встревоженный его слишком воинственным тоном.
– Успокойся, сын мой, – сказал он, – и говори потише. Ты сделал неправильный вывод, мой доблестный Хирвард. Действительно, когда ты рядом со мной, я не побоюсь сразиться с пятью такими воинами, как Никанор, но поединки запрещены законом нашей возлюбленной Богом империи и неугодны трижды прославленному монарху, правящему ею. Тебя испортили, мой храбрый воин, хвастливые россказни франков – эти истории, которые с каждым днем все больше распространяются по Константинополю.
– Никогда по доброй воле я ни в чем не стану подражать тем, кого ты называешь франками, а мы – норманнами, – сердито ответил варяг.
– Не горячись, – сказал Татий, продолжая идти вдоль стены. – Лучше вдумайся в существо дела, и тогда тебе станет ясно, что обычай, который франки именуют дуэлью, не может существовать в стране, где господствуют цивилизация и здравый смысл, не говоря уже о нашем государстве, удостоенном такого монарха, как несравненный Алексей Комнин. Два царедворца или два военачальника спорят в присутствии высокочтимой особы императора. Они в чем-то не согласны между собой. И вдруг, вместо того чтобы каждому отстаивать свою точку зрения, выдвигая аргументы или доказательства, представь, что они обратятся к обычаю этих варваров франков! «Ты наглый лжец!» – скажет один. «Нет, это ты насквозь пропитан гнусной ложью!» – ответит другой, и тут же оба начнут выбирать место для поединка. Каждый клянется, что правда на его стороне, хотя, вероятно, оба недостаточно знают, в чем она заключается. Один из них, возможно – наиболее храбрый, честный и добродетельный, главный телохранитель императора и отец своих варягов, остается лежать бездыханным на земле – смерть ведь никого не щадит, мой верный спутник, – а другой возвращается и процветает при дворе, хотя, если бы дело было расследовано с точки зрения здравого смысла и справедливости, то победителя, как его величают, должны были бы послать на виселицу. Вот что такое спор, решенный в «честном поединке», как ты изволишь называть это, друг мой Хирвард.
– Если на то пошло, твоя доблесть, то согласен, в твоих словах есть доля правды, – ответил варвар, – но меня легче убедить в том, что эта лунная ночь черна, как пасть волка, чем заставить спокойно слушать, как меня обзывают лжецом. Нет, я тут же вгоню эти слова обидчику в глотку острием моей алебарды! Обвинить человека во лжи – это все равно что ударить его по лицу, а кто не отвечает ударом на удар, тот просто жалкий раб или вьючное животное.
– Опять ты за свое! – сказал Ахилл Татий. – Неужели я так никогда и не внушу вам, что ваши варварские обычаи толкают вас, самых дисциплинированных воинов божественного императора, на кровавые ссоры и вражду, которые…
– Господин начальник, – угрюмо отозвался варяг, – послушай моего совета, принимай варягов такими, каковы они есть; поверь мне, если ты приучишь их сносить оскорбления, терпеть ложь и не отвечать на удары, то очень скоро убедишься, что при самой лучшей дисциплине они не будут стоить дневной порции соли, которую расходует на них святейший император, если таков его титул. Скажу тебе больше, доблестный начальник: варяги вряд ли будут очень благодарны своему командиру, если узнают, что при нем их обозвали грабителями, пьяницами и еще не знаю как, а он тут же на месте не опроверг этих обвинений.
«Да, – подумал Татий, – если бы я не умел приноравливаться к причудам моих варваров, дело кончилось бы ссорой с этими неукротимыми островитянами: напрасно император думает, что их так легко держать в повиновении. Надо немедленно уладить эту размолвку».
– Мой верный воин, – примирительно сказал он саксу, – точно так же, как вы полагаете себя обязанными возмущаться, когда вас обвиняют во лжи, мы, римляне, в соответствии с обычаями наших предков, считаем для себя делом чести говорить только правду, и, поскольку все, что сказал Никанор, чистейшая правда, я поступил бы бесчестно, упрекнув его во лжи…
– Как! Выходит, что мы, варяги, действительно воры, пьяницы и тому подобное? – еще более раздраженно, чем раньше, спросил Хирвард.
– Конечно, нет, если говорить по существу, – ответил Ахилл Татий, – однако вы дали серьезный повод для этой выдумки.
– Где и когда? – спросил англосакс.
– Помнишь ли ты, – сказал начальник, – тот длинный переход от ущелья к Лаодикее{42}, когда варяги разгромили полчища турок и отбили захваченный ими обоз с императорским имуществом? Ты отлично знаешь, что вы наделали в тот день, – я имею в виду то, как вы утолили тогда свою жажду.
– У меня есть все основания помнить, – ответил Хирвард из Гемптона, – мы чуть не задохлись от пыли и усталости, а хуже всего было то, что нам все время приходилось отбивать атаки с тыла; тут как раз нам в руки попало несколько бочек с вином, оставленных на разбитых повозках, и вино это исчезло в наших глотках так быстро, точно то был лучший эль из Саутгемптона.
– Несчастные! – воскликнул главный телохранитель. – Неужели вы не заметили, что эти бочки были опечатаны личной и неприкосновенной печатью трижды превосходительного главного кравчего и предназначены для священных уст его императорского величества?
– Клянусь добрым святым Георгием нашей веселой Англии, который стоит дюжины ваших святых Георгиев Каппадокийских{43}, вот уж что меня мало заботило! – ответил Хирвард. – Я только помню, что и твоя доблесть сделала хороший глоток из моего шлема – не из этой серебряной игрушки, а из стального шлема, который вдвое больше. И доказательство этому есть: сперва ты приказал отступать, а как отмыл глотку от пыли, будто сразу стал другим человеком и крикнул нам: «Грудью встретим новый удар врага, мои храбрые и стойкие сыны Британии!»
– О, – ответил Ахилл Татий, – в бою я не знаю удержу. Но в одном ты ошибся, добрый Хирвард; вино, которым я освежился после изнурительной схватки с врагом, было не то, что предназначалось для собственных уст его священного величества, а совсем другое, второго сорта, оставленное главным кравчим для самого себя, и я, как один из высших военачальников, имел законное право попробовать его. Однако дело все равно чрезвычайно неприятное.
– Клянусь жизнью, – ответил Хирвард, – я не вижу большого греха в том, что, умирая от жажды, мы выпили это вино.
– Ничего, мой благородный друг, не унывай, – сказал Ахилл; поспешно оправдав себя, он сделал вид, что не замечает легкомыслия, с каким варяг отнесся к своему проступку. – Его императорское величество в своей неизреченной милости не считает преступниками тех, кто участвовал в этой неблагоразумной проделке. Более того – он упрекнул протоспафария за то, что тот выступил с таким обвинением, и, напомнив о неразберихе и смятении, царивших в тот трудный день, сказал: «Я сам почувствовал себя лучше в этом ужасном пекле, когда промочил себе горло глотком ячменного вина, которое обычно пьют мои бедные варяги; да, я с удовольствием выпил за их здоровье, тем более что если бы не они, это был бы последний глоток в моей жизни. Слава их мужеству, хотя они в свою очередь выдули мое вино!» После этого он отвернулся, словно говоря: «С меня довольно всех этих сплетен и козней, направленных против Ахилла Татия и его храбрых варягов».
– Да благословит Господь его благородное сердце за такие слова! – воскликнул Хирвард, и на этот раз в его тоне было больше искренней сердечности, чем полагающегося почтения. – Я буду пить за его здоровье, чем бы мне ни пришлось в следующий раз утолять жажду – элем, вином или водой из канавы.
– Хорошо сказано, только не старайся перекричать самого себя и не забывай прикладывать руку к шлему, когда называешь имя императора или думаешь о нем. Ну так вот, Хирвард, получив такое преимущество и понимая, что, отбив атаку, всегда следует немедленно переходить в наступление, я возложил на протоспафария Никанора ответственность за грабежи, которые происходят у Золотых ворот и у других входов в город: ведь совсем недавно был похищен и убит купец, который вез драгоценности, принадлежавшие патриарху.
– В самом деле? – воскликнул варяг. – И что же сказал Алек… то есть святейший император, когда он услышал о таких подвигах городской стражи? Хотя ведь он сам, как говорят у меня на родине, поставил лису стеречь гусей.
– Может, так оно и есть, – ответил Ахилл, – но наш государь – тонкий политик и не станет преследовать этих вероломных стражей или их начальника протоспафария, не имея решающих доказательств. Поэтому его святейшее величество поручил мне добыть с твоей помощью обстоятельные улики.
– Я добыл бы их в две минуты, не прикажи ты мне прекратить погоню за этим гнусным головорезом. Но его величество знает, чего стоит слово варяга, и я могу заверить его, что желание завладеть этой серебряной штукой, которую они точно в насмешку называют кирасой, и ненависть к нашему отряду – вполне достаточный повод для любого из этих негодяев, чтобы перерезать горло уснувшему варягу. Надо думать, мы с тобой пойдем сейчас к императору и расскажем ему об этом ночном разбое?
– Нет, мой нетерпеливый варяг, даже если бы ты поймал мерзавца, я немедленно отпустил бы его, и я требую от тебя, чтобы ты забыл обо всем происшедшем.
– Вот так поворот в политике! – воскликнул варяг.
– Ты прав, мой храбрый Хирвард. Перед тем как я ушел сегодня из дворца, патриарх постарался восстановить мир между мной и протоспафарием, и, поскольку наше доброе согласие очень важно для государства, я, как хороший воин и хороший христианин, не мог отказаться от примирения. Патриарх поручился, что все оскорбления, нанесенные моей чести, будут полностью искуплены. Император, который предпочитает ничего не знать о наших ссорах, очень хочет, чтобы эта история заглохла.
– А обвинения, возведенные на варягов… – начал Хирвард.
– Будут взяты обратно и заглажены, – прервал его Ахилл Татий, – увесистым подарком в виде золотых монет, которые раздадут всем воинам англодатского отряда. Если хочешь, мой Хирвард, я назначу тебя раздатчиком, и ты позолотишь свою алебарду, только сумей ловко провести этот дележ.
– Мне моя алебарда больше нравится такой, какова она есть, – сказал варяг. – Мой отец разил ею воров норманнов при Гастингсе{44}. Эта сталь мне дороже золота.
– Дело твое, Хирвард, – ответил начальник. – Только пеняй на себя, если ты так и останешься бедняком.
Но тут они подошли к калитке, или, лучше сказать, к вылазным воротам, которые вели внутрь большого и массивного укрепления, прикрывавшего вход в город. Начальник остановился и склонил голову с видом святоши, готовящегося войти в особо почитаемую часовню.
Глава III
Здесь дерзость – не подмога:Главу ты обнажиИ меч свой у порогаСмиренно положи.Опасностей здесь много:Будь словно лань, что вдругОхотничьего рогаЗаслышит дальний звук.«Двор»Перед тем как войти в калитку, Ахилл Татий проделал ряд сложных поклонов, а непривычный к этому варяг неловко и смущенно повторял все его движения. Почти вся служба Хирварда до этого проходила в боевых походах, и только совсем недавно его перевели в константинопольский гарнизон. Поэтому он не был еще знаком с разработанным до мелочей этикетом, который греки – самые церемонные и чопорные воины и придворные в мире – соблюдали не только по отношению к самому императору, но и вообще ко всему, что было с ним связано.
Ахилл, особым образом отвесив полагающиеся поклоны, постучал наконец в ворота, отчетливо и в то же время негромко. Трижды повторив стук, он прошептал своему сопровождающему:
– Сейчас откроют! Если тебе дорога жизнь, повторяй за мной все, что я буду делать.
В тот же момент он подался назад, низко опустил голову, прикрыл глаза рукой, словно защищая их от яркого света, который вот-вот должен вспыхнуть, и стал ждать ответа. Англодатчанин, повинуясь приказу командира и повторяя все его движения, застыл рядом в позе, на восточный лад изображавшей смирение. Маленькие воротца открылись внутрь; из полной темноты возникли фигуры четырех варягов с алебардами, занесенными так, словно они собирались повергнуть наземь пришельцев, нарушивших покой их сторожевого поста.
– Аколит, – произнес начальник вместо пароля.
– Аколит Татий, – пробормотали стражи и опустили алебарды.
Ахилл горделиво вскинул голову, украшенную высоким шлемом, весьма довольный, что воины знают, как велико его влияние при дворе. Хирвард остался невозмутимым, к полному недоумению главного телохранителя, удивленно вопрошавшего себя, как это можно быть столь невежественным, чтобы спокойно наблюдать такую сцену, которая, по его личному мнению, должна была внушать благоговейный страх. Спокойствие своего спутника он отнес за счет его тупой бесчувственности.
Они прошли между стражами, которые, расступившись, пропустили их к длинной и узкой доске, перекинутой через городской ров, прорытый между укреплением и городской стеной.
– Эту доску, – шепнул начальник Хирварду, – называют Мостом Опасности: говорят, иногда она оказывалась смазанной маслом или посыпанной сушеным горохом, и тела людей, приближенных к священной особе императора, обнаруживали в бухте Золотой Рог{45}, куда стекают воды из рва.
– Никогда бы не подумал, – сказал островитянин, повысив голос до обычного, – что Алексей Комнин…
– Молчи, безумец, или не сносить тебе головы! – воскликнул Ахилл Татий. – Тот, кто будит дочь императорских сводов[5], всегда навлекает на себя тяжкую кару; но если преступный безумец нарушает ее покой словами, затрагивающими священную особу его величества императора, смерть и та покажется благом по сравнению с наказанием, которое ждет наглеца, прервавшего ее праведный сон! Судьба лишила меня милостей, иначе я не получил бы прямого приказа доставить в священные покои существо, стоящее на столь низкой ступени цивилизации, что оно способно думать только о безопасности своего бренного тела и не знает духовных радостей. Посмотри на себя, Хирвард, и подумай, кто ты такой? Обыкновенный варвар, и похвалиться ты можешь лишь тем, что на войне, которую ведет твой государь, ты убил нескольких мусульман и что тебя допустили в запретные покои Влахернского дворца{46}[6], где твой голос может услышать не только царственная дочь императорских сводов, или, иначе говоря, эхо этих великолепных залов, – продолжал красноречивый аколит, – но и, помилуй нас небо, само священное ухо!