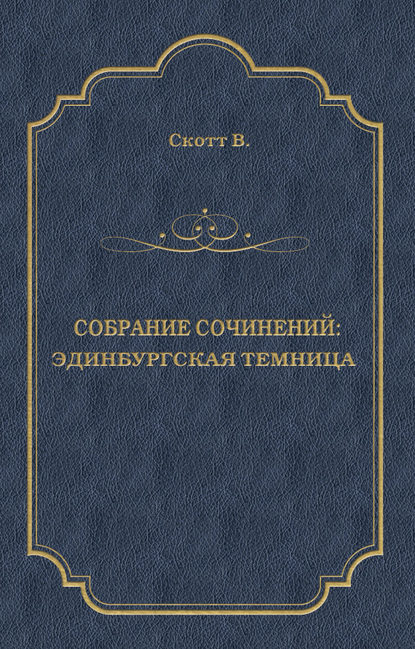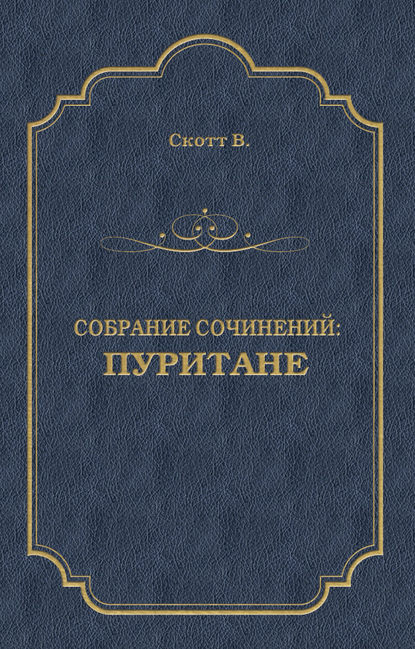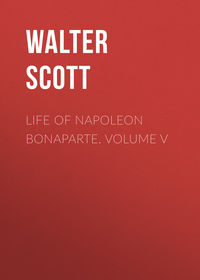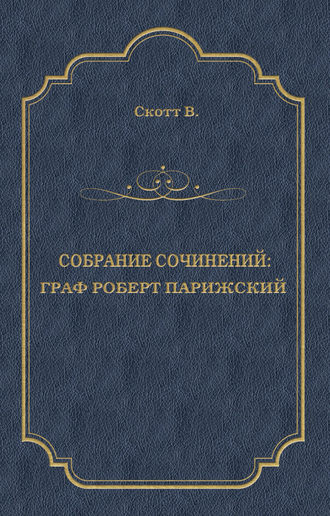
Полная версия
Граф Роберт Парижский
Все эти сведения о варягах являются строго историческими и могут быть подтверждены ссылками на византийских историков{20}, большинство которых, как и Виллардуен в своем описании взятия Константинополя франками и венецианцами, неоднократно упоминало об этом избранном и единственном в своем роде отряде англичан, составлявших наемную охранную гвардию при греческих императорах[4].
Теперь, объяснив, каким образом наш варяг мог очутиться у Золотых ворот, мы продолжим прерванный рассказ.
Вряд ли приходится удивляться тому, что прохожие посматривали на этого воина императорской гвардии с некоторой долей любопытства. Варяги несли такого рода службу, что, разумеется, начальники не поощряли их к частому общению с местным населением, да они и сами понимали, что полицейские обязанности, которые им приходилось выполнять, внушают скорее страх, чем приязнь; знали они и о той зависти, с какой воины других отрядов относились к их высокому жалованью, роскошному снаряжению и непосредственной близости к императору. Поэтому они обычно держались поближе к своим казармам и показывались в других частях города, только если им давали какое-нибудь важное поручение.
При таком положении дел понятно, что столь любопытные люди, как греки, с интересом глазели на чужеземца, который то останавливался, то ходил взад и вперед, словно человек, который не может разыскать нужное ему место или не встретил знакомого, назначившего ему свидание. Изобретательные горожане придумывали по этому поводу тысячи всевозможных и самых противоречивых толкований.
– Смотри, да ведь это варяг, – заметил один прохожий другому, – и не иначе как по делам службы. Позволь сказать тебе кое-что на ухо…
– А как ты думаешь, зачем он здесь? – полюбопытствовал его собеседник.
– О боги и богини! Неужели ты полагаешь, что я могу ответить на этот вопрос? Может, он подслушивает, что люди говорят об императоре, – отозвался константинопольский болтун.
– Вряд ли, – заявил вопрошавший. – Эти варяги объясняются только на своем наречии и, следовательно, не годятся для роли шпионов; ведь большинство из них не знает ни слова по-гречески. Нет-нет, не думаю, чтобы император держал в качестве соглядатая человека, не понимающего здешнего языка.
– Но если правда, как утверждают люди, что среди этих варваров есть такие, которые знают множество языков, то, согласись, они замечательно подходят для того, чтобы высматривать и подслушивать; у них есть все данные, необходимые для шпионов, и никому в голову не придет заподозрить их, – настаивал любитель политических сплетен.
– Все может быть, – ответил его собеседник, – и раз уж мы так ясно разглядели лисьи лапы и когти, выглядывающие из-под овечьей – или, если позволишь, скорее, из-под медвежьей – шкуры, то не лучше ли нам потихоньку отправиться по домам, пока нас с тобой не обвинили в оскорблении варяжской гвардии?
Опасение, высказанное вторым собеседником, который был постарше и поискушеннее в делах политики, чем его приятель, заставило обоих спешно ретироваться. Они плотнее запахнули плащи, взялись под руки и, возбужденным шепотом обмениваясь тревожными сведениями, поспешили к своим домам, расположенным в другом, дальнем конце города.
Тем временем солнце склонялось к западу, и тени от стен, башен и арок становились темнее и гуще.
Варягу, видимо, надоело разгуливать по маленькому кругу, в пределах которого он топтался уже больше часа, словно дух, обреченный витать в заколдованном месте, откуда ему не выбраться, пока не будут разрушены чары. Наконец, бросив нетерпеливый взгляд на солнце, которое в яркой короне лучей садилось за купу густо разросшихся кипарисов, варвар выбрал себе место на одной из каменных скамеек, расположенных в тени триумфальной арки Феодосия, положил под бок главное свое оружие – алебарду, укрылся плащом, и, хотя одеяние его так же мало было приспособлено для сна, как ложе, избранное им для отдыха, не прошло и трех минут, как он крепко уснул. Быть может, непреодолимое желание отдохнуть, заставившее его расположиться в столь неподходящем месте, было вызвано длительным стоянием в карауле прошлой ночью. Однако, даже погрузившись в сон, он оставался настороже, словно бодрствуя с закрытыми глазами, и можно сказать, что ни одна сторожевая собака не спит так чутко, как спал наш англосакс у Золотых ворот Константинополя.
Но незнакомец и спящий привлекал к себе не меньше внимания случайных прохожих, чем прежде, когда он слонялся без дела. Под аркой появилось двое. Один из них, по имени Лисимах, тщедушный, подвижной человек, был художником. Все его профессиональное снаряжение состояло из свитка бумаги, который он держал в руке, и мешочка с несколькими мелками и карандашами; будучи знаком с памятниками античного искусства, он разглагольствовал о нем весьма авторитетным тоном, хотя, к сожалению, этот тон далеко не оправдывался его собственным мастерством. Его спутник напоминал отличным сложением молодого варвара, о котором уже шла речь, но черты лица у него были куда более грубые и жесткие; это был хорошо известный в палестре борец по имени Стефан.
– Постоим здесь, мой друг, – обратился к своему спутнику художник, доставая карандаши, – я хочу сделать набросок с этого юного Геракла.
– Я всегда считал, что Геракл был грек, – возразил ему борец, – а это спящее животное – варвар.
В голосе его прозвучала некоторая обида, и художник поторопился смягчить недовольство своего друга, которое он, сам того не желая, вызвал. Стефан, известный под прозвищем Кастор{21}, славился как превосходный гимнаст и в какой-то мере покровительствовал маленькому художнику; видимо, благодаря его известности не остался незамеченным и талант его друга.
– Красота и сила, – ответил находчивый художник, – не имеют национальности, и пусть наша муза откажет мне в своей благосклонности, но я наслаждаюсь, сравнивая их проявления у нецивилизованного северного дикаря и у любимого сына просвещенного народа, у человека, который сумел к своим выдающимся природным данным присоединить искусство гимнастической школы; такое сочетание мы видим теперь только в работах Фидия и Праксителя{22} или в нашем живом образце, воскрешающем античный идеал гимнаста.
– Нет, я признаю, что этот варвар хорошо сложен, – сказал, несколько смягчившись, атлет, – только бедный дикарь, вероятно, ни разу в жизни не растер себе грудь даже каплей масла. Геракл же учредил Истмийские игры…{23}
– Погоди, – прервал его художник. – Что это он прижимает к себе под своей медвежьей шкурой даже во сне? Уж не дубинка ли это?
– Прочь, прочь отсюда, мой друг! – воскликнул Стефан, приглядевшись к спящему. – Разве ты не видишь, что это варварское оружие? Они ведь сражаются не мечом или копьем, как принято сражаться с людьми из плоти и крови, а молотом и топором, точно им предстоит рубить тела из камня и мышцы из дуба. Я готов прозакладывать свой венок – увы, из увядшей петрушки, – что он здесь для того, чтобы арестовать какого-нибудь высокопоставленного военачальника, оскорбившего власть. Иначе зачем ему быть столь грозно вооруженным?.. Прочь, прочь отсюда, мой добрый Лисимах, будем уважать сон этого медведя.
С этими словами чемпион палестры поторопился скрыться, проявив гораздо меньше уверенности в себе, чем можно было ожидать при его росте и силе.
Наступал вечер, тени кипарисов становились все гуще, прохожие попадались все реже и шли не останавливаясь. Две женщины-простолюдинки обратили внимание на спящего.
– Святая Мария! – сказала одна из них. – Он точь-в-точь как тот храбрый принц из восточной сказки{24}, которого джинн унес из свадебных покоев в Египте и спящего бросил у ворот Дамаска. Разбужу-ка я этого бедного ягненка, а не то он простудится от ночной росы.
– Простудится? – отозвалась вторая, на вид постарше, с озлобленным лицом. – Роса причинит ему не больше вреда, чем холодная вода Кидна{25} дикому лебедю. Ягненок! Ты уж скажешь! Да это скорее волк, или медведь, или на худой конец варяг, и ни одна порядочная женщина не станет разговаривать с таким неотесанным варваром. Вот я тебе расскажу, что со мной сделал один из этих англодатчан…
И она увлекла свою подругу, которая последовала за ней с явной неохотой, делая вид, что слушает ее болтовню, но при этом все время оглядываясь на спящего.
Солнце зашло, и сумерки, которые в тропических странах столь коротки – одна из немногих привилегий стран с более умеренным климатом как раз в том и состоит, что там этот нежный и спокойный свет дольше не гаснет, – уступили место темноте; это послужило сигналом для городской стражи запереть створчатые половины Золотых ворот и закрыть на засов калитку, через которую попадали теперь в город те, кого дела допоздна задержали за стенами Константинополя и, уж само собой разумеется, кто готов был расплатиться какой-нибудь мелкой монетой. Варяг, распростертый на скамье и, видимо, спящий непробудным сном, не мог не привлечь внимания охраны ворот, где нес службу сильный отряд регулярных греческих войск.
– Клянусь Кастором и Поллуксом! – воскликнул центурион, ибо греки по-прежнему клялись именами античных богов и героев, хотя уже не поклонялись им, точно так же, впрочем, как они сохраняли воинские звания, существовавшие еще в те времена, когда «непоколебимые римляне сотрясали мир»{26}, хотя давно уже переродились и забыли свои древние доблести. – Клянусь Кастором и Поллуксом, друзья, хотя эти ворота называются Золотыми, золота они нам не приносят, но мы сами будем виноваты, если не сумеем собрать добрую жатву серебром. Золотой век был самый древний и славный, не спорю, однако в наше ничтожное время не так уж плохо, если нам блеснет и менее благородный металл.
– Мы не заслуживали бы чести служить под командованием благородного центуриона Гарпакса, – отозвался один из стражников, мусульманин, судя по бритой голове и единственному пучку волос на макушке, – если бы не считали серебро достойным того, чтобы побеспокоить себя ради него, коли уж невозможно разжиться золотом: мы и цвет-то его позабыли – столько месяцев нам ничего не перепадало ни от казны, ни от прохожих.
– А то серебро, о котором я говорю, ты увидишь собственными глазами и услышишь, как оно зазвенит, падая в мешок, где хранится наша общая казна.
– Ты хочешь сказать, доблестный начальник, где когда-то хранилась, ибо, насколько я знаю, сейчас в этом мешке нет ничего, кроме нескольких жалких оболов, на которые можно купить только маринованных овощей да соленой рыбы – надо же чем-нибудь закусить виноградное пойло, что нам выдают. Я готов уступить свою долю дьяволу, если кто-нибудь обнаружит в этом мешке или на блюде признаки века более богатого, нежели бронзовый{27}.
– Будь у нас еще меньше звонкой монеты, – ответил центурион, – все равно я пополню нашу казну. А ну-ка подойдите ближе к калитке. Не забудьте, мы императорская стража, или стража императорской столицы, – это одно и то же, так что не зевайте, пусть никто не проскользнет мимо нас незамеченным. А теперь, когда каждый из вас смотрит в оба, я объясню вам… Впрочем, одну минуту… – прервал свою речь доблестный центурион. – Все ли здесь стоят один за другого? Все ли знают старинный и похвальный обычай городской стражи – сохранять в тайне все, что касается прибылей и дел нашего поста, помогать и поддерживать друг друга, ничего не разбалтывая и никого не предавая?
– Ты сегодня что-то слишком подозрителен, – ответил ему стражник.
– Мне кажется, мы поддерживали тебя и не болтали языком в делах посерьезнее. Забыл ты, что ли, как здесь проходил торговец драгоценными камнями?.. Это был не золотой и не серебряный век, а самый что ни на есть алмазный…
– Помолчи, Измаил, мой добрый язычник, – прервал его центурион. – Кстати сказать, слава богу, что у всех у нас разная вера – надо надеяться, хоть одна истинная среди них да найдется. Так вот, помолчи, говорю я, незачем разбалтывать старые тайны в доказательство того, что ты умеешь хранить новые. Иди сюда и посмотри сквозь калитку на каменную скамью вон там, в тени большого портика. Скажи-ка мне, старина, что ты там видишь?
– Спящего человека, – ответил Измаил. – И, клянусь небом, насколько я могу разобрать при свете луны, это один из тех варваров, заморских псов, которых в таком множестве набрал себе император.
– И ты, умная голова, видишь, что он спит, и не можешь придумать, как повыгоднее воспользоваться этим?
– Почему не могу? – возразил Измаил. – Хотя они не только варвары, а еще и языческие псы, но, в отличие от нас, мусульман, и от назарян{28}, им платят очень хорошо. Этот малый напился и не смог вовремя найти дорогу к своим казармам. Его ждет жестокое наказание, если мы не согласимся пропустить его, а чтобы уговорить нас, ему придется опустошить свой пояс.
– Да, это уж по меньшей мере, – поддержали его остальные стражники, стараясь говорить потише, хотя в голосах их звучало нетерпение.
– И это все, что вы собираетесь извлечь из такого случая? – с презрением спросил Гарпакс. – Нет, друзья, если этот чужеземный зверь спасется от нас, то по крайней мере он должен оставить нам свою шерсть. Неужто вы не видите, как сверкают его шлем и нагрудник? Заранее могу сказать, что они из настоящего серебра, хотя, может быть, и из тонкого. Вот они, серебряные копи, о которых я говорил, и они обогатят ловкие руки, способные поработать.
– Но ведь этот варвар, как ты его называешь, – воин императора, – несмело произнес молодой грек, недавно вступивший в отряд и незнакомый еще с его обычаями. – Если нас уличат в том, что мы отобрали у него оружие, то по заслугам накажут, как военных преступников.
– Нет, вы только послушайте, как этот новый Ликург{29} учит нас нашему долгу! – воскликнул центурион. – Запомни, мальчишка, что, во-первых, столичная стража не может совершить преступление, а во-вторых, никто не может уличить ее в этом. Представь себе, что нам попался отбившийся от своих варвар, варяг, вроде этого спящего, или франк, или какой другой из этих иноземцев, чье имя и произнести-то невозможно, хотя, к стыду нашему, они вооружены и одеты, словно истые римские воины; так неужели же мы, кому доверено защищать столь важный пост, пропустим такого подозрительного человека, который, возможно, злоумышляет против Золотых ворот и золотых сердец, охраняющих их, – ведь ворота могут захватить, а нам попросту перерезать глотки?
– Если он кажется вам опасным человеком, – ответил новичок, – не пропускайте его совсем. Что касается меня, то я не стал бы его бояться, не будь при нем этой огромной обоюдоострой алебарды, поблескивающей из-под его плаща куда более страшно, чем комета, которая предвещает, по словам астрологов, такие удивительные события.
– Ну вот, выходит, мы во всем и согласны, – сказал Гарпакс, – сейчас ты говоришь как скромный и толковый юноша. Можешь мне поверить, государство ничего не потеряет, если кто-нибудь ограбит этого дикаря. У каждого из них есть доспехи, украшенные золотом, серебром, инкрустациями и костью, как подобает тем, кто несет службу во дворце самого императора, и, кроме того, есть боевое снаряжение из трижды закаленной стали, прочное, тяжелое, перед которым нельзя устоять. Если мы отберем у этого подозрительного молодчика серебряный шлем и кирасу, мы тем самым заставим его облачиться в подобающие ему доспехи, и ты увидишь, что он пойдет в бой с тем оружием, какое ему пристало.
– Так-то оно так, – возразил новичок, – только из твоих рассуждений выходит, что, мол, сегодня мы вправе отнять у него снаряжение, но если завтра варяг докажет, что он человек неподозрительный, нам придется все вернуть, да еще поклониться при этом. А у меня есть такая мыслишка, что неплохо бы отобрать у него все это насовсем, в наше общее пользование, только вот не знаю, как это сделать.
– Конечно, надо отобрать насовсем, – сказал Гарпакс, – ибо еще со времен замечательного центуриона Сизифа{30} установлено правило, по которому всякая контрабанда, всякое недозволенное оружие и прочие подозрительные товары, что пытаются пронести в город ночью, поступают в пользу воинов стражи; а уж если император решит, что товары или оружие отобраны незаконно, то, надо думать, он достаточно богат, чтобы возместить их стоимость потерпевшему.
– И все-таки, все-таки, – сказал упомянутый молодой грек, по имени Себаст из Митилены{31}, – если император узнает…
– Ты просто осел! – воскликнул Гарпакс. – Не может он узнать, будь у него столько глаз, сколько у Аргуса{32} на хвосте. Нас здесь двенадцать человек, и, как испокон веков заведено у городской стражи, все мы дали клятву не подводить друг друга. Допустим, этот варвар, даже если он что-нибудь вспомнит – в чем я очень сомневаюсь, так как место, выбранное им для отдыха, говорит о его давнишней дружбе с кувшином вина, – и станет рассказывать невероятную историю о том, как он потерял оружие, а мы, друзья мои, – при этом центурион оглядел своих соратников, – будем упорно все отрицать – я полагаю, на это у нас хватит храбрости, – то кому поверят? Конечно, страже!
– Вот уж нет! – ответил Себаст. – Я родился далеко отсюда, но даже до острова Митилена доходили слухи, будто воины городской стражи Константинополя достигли такого совершенства во лжи, что клятва одного варвара перевесит клятвы целого отряда христиан, тем более, что в нем не одни христиане, – например, этот смуглый с пучком волос на голове.
– Даже если так, – сказал с мрачным и зловещим видом центурион, – есть другой способ отнять у него оружие и при этом не попасться.
Глядя в упор на своего командира, Себаст дотронулся до висевшего у него сбоку восточного кинжала, словно спрашивая, правильно ли он понял. Центурион кивнул головой в знак согласия.
– Хоть я и молод, – сказал Себаст, – но мне уже довелось пять лет быть морским пиратом, а потом в течение трех лет заниматься грабежом в горах, и я ни разу не слышал, чтобы в подобных случаях, когда нужно действовать не мешкая, мужчина побоялся принять решение, единственно достойное храброго человека.
Гарпакс пожал стражнику руку в знак того, что разделяет его решимость, но, когда он заговорил, голос его слегка дрожал.
– Как же мы с ним поступим? – спросил он Себаста, который, хотя и был самым младшим среди стражников, поднялся в его глазах на недосягаемую высоту.
– Да как угодно, – отозвался митиленец, – вон лежат луки и стрелы, и если никто, кроме меня, не умеет обращаться с ними…
– У нас, – сказал центурион, – это оружие не в ходу.
– Нечего сказать, хорошие вы стражи! – Молодой воин разразился грубым хохотом, в котором было что-то оскорбительное. – Что ж, пусть будет так. Я стреляю не хуже скифа, – продолжал он, – только кивните мне, и первой же стрелой я пробью ему череп, а вторую всажу в сердце.
– Браво, мой благородный друг! – сказал Гарпакс с притворным восхищением, однако приглушив голос, словно уважая сон варяга. – Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты{33}, и понадобились полубоги, чтобы свершить над ними то, что столь ошибочно называют правосудием. Их потомки, равные им по смелости, останутся хозяевами на материке и островах Греции, пока на земле вновь не появятся Гераклы и Тесеи. И все-таки стрелять не надо, мой доблестный Себаст, здесь надо действовать наверняка, мой бесценный митиленец: ведь ты можешь только ранить его, а не убить.
– Этого я и сам не хотел бы, – сказал Себаст, вновь разражаясь грубым, кудахтающим смехом, который начал раздражать центуриона, хотя вряд ли он мог объяснить, почему этот смех так ему неприятен.
«Если я не позабочусь о себе, – подумал он, – так, пожалуй, у нас в отряде окажутся два центуриона вместо одного. Этот митиленец – или кто он там, дьявол его знает, – легко меня обскачет. За ним нужен глаз да глаз».
Вслух же он властно сказал:
– Ну что ж, действуй, молодой человек; нехорошо осаживать начинающего. Если ты не врешь и действительно был разбойником в лесах и на море, так сам знаешь, что нужно делать, дабы не оставлять следов: вон лежит варяг, пьяный или спящий – этого уж мы не знаем, да оно и не важно, ибо ты должен расправиться с ним в любом случае.
– Значит, ты предоставляешь мне право заколоть спящего или пьяного человека, высокоблагородный центурион? – спросил грек. – Может, тебе самому хочется заняться этим? – продолжал он с иронией в голосе.
– Делай что приказано, приятель, – буркнул Гарпакс, показывая ему на лесенку внутри башни, которая вела со стены к сводчатому входу под портиком. – До чего бесшумно движется, прямо как кошка, – пробормотал он, когда стражник стал спускаться, чтобы совершить преступление, которое центурион по долгу службы обязан был предотвратить. – Этому петушку пора отрезать гребешок, не то он станет править в нашем курятнике. Посмотрим, какая у него рука – такая же решительная, как язык, или нет, а тогда будет, ясно, что с ним делать.
Пока Гарпакс бормотал сквозь зубы, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо из своих подчиненных, митиленец показался из-под арки и на цыпочках, но очень быстро направился к варягу, двигаясь необыкновенно проворно и вместе с тем бесшумно.
Кинжал, который он успел обнажить, пока спускался, был отведен назад, чтобы его не было видно, и поблескивал в лунном свете. На секунду убийца застыл над спящим, словно для того, чтобы лучше разглядеть, в каком месте злополучная кираса обнажает грудь, которую она должна была защищать, но в тот миг, когда он собирался вонзить кинжал, варяг молниеносно вскочил, алебардой отбросил вверх руку убийцы и, избегнув опасности, в свою очередь нанес греку такой мощный удар, какому Себаста не обучали в гимнастической школе; у митиленца не хватило дыхания даже на то, чтобы позвать на помощь своих товарищей с крепостной стены. Они видели все, что случилось: как варвар наступил ногой на их товарища и занес над ним алебарду, чей свист зловеще отдался под старинной аркой; видели, как он на мгновение приостановился с занесенным оружием перед тем, как обрушить на врага последний удар. Между стражниками поднялась суматоха, словно они намеревались броситься на помощь Себасту, без особой, впрочем, стремительности, но Гарпакс громким шепотом скомандовал им не двигаться.
– Все по местам, – прошипел он, – что бы там ни случилось. Сюда идет начальник гвардии; если митиленец убит этим дикарем – а я полагаю, что убит, ибо он не шевелит ни рукой, ни ногой, – то нашей тайны никто не узнает. Если же, друзья, он остался жив, будьте немы как рыбы – он один, а нас двенадцать. Мы ничего не знали о его намерении, кроме того, что он пошел посмотреть, почему варвар спит так близко от сторожевого поста.
Пока центурион деловито растолковывал товарищам по караулу, как им следует вести себя, внизу показался рослый и статный воин; на нем было богатое оружие и шлем, высокий гребень которого засверкал, когда его владелец вышел из-под арки на лунный свет. Среди стражников, стоявших наверху, пробежал шепот.
– Задвиньте засов, заприте калитку, – приказал центурион, – а уж с митиленцем пусть будет что будет: мы погибли, если признаем, что он один из наших. Это идет сам начальник варяжской гвардии, главный телохранитель императора.
– Эй, Хирвард, – обратился к варягу пришедший на ломаном лингва-франка, на котором обычно объяснялись варвары, служившие в императорской гвардии, – ты что, поймал ночного сокола?
– Клянусь святым Георгием{34}, ты прав, – отозвался варяг, – только у меня на родине его посчитали бы всего лишь коршуном.
– А кто он? – спросил начальник.
– Это он сам тебе расскажет, – ответил варяг, – когда я перестану сжимать ему горло.
– Отпусти его, – последовал приказ.
Англичанин повиновался, но как только митиленец почувствовал свободу, он с неожиданной ловкостью выскочил из-под арки и побежал, укрываясь за вычурными украшениями, которыми по воле зодчего изобиловали ворота снаружи; он вертелся вокруг опор и выступов, преследуемый по пятам варягом, которому его оружие мешало догнать быстроногого грека, укрывавшегося от своего преследователя то в одном темном углу, то в другом. Вновь пришедший от души смеялся, глядя, как эти две фигуры, нежданно появляясь и исчезая подобно теням, метались друг за другом вокруг арки Феодосия.
– Клянусь Гераклом, можно подумать, что это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона{35}, – произнес он, – только на этот раз Пелиду, пожалуй, не настигнуть сына Приама. Эй, ты, рожденный богиней, сын белоногой Фетиды! Впрочем, бедному дикарю непонятны эти сравнения. Эй, Хирвард! Говорю тебе, остановись! Уж свое-то варварское имя ты знаешь.
Последние слова он пробормотал себе под нос, затем опять возвысил голос:
– Побереги свое дыхание, добрый Хирвард! Оно тебе еще понадобится сегодня ночью.
– Стоило тебе приказать, – ответил варяг, нехотя приближаясь к командиру и с трудом переводя дух, как человек, бежавший из последних сил, – и уж я не упустил бы его, загнал бы, как борзая зайца! Не будь на мне этих дурацких доспехов, которые только обременяют, вместо того чтобы защищать, мне не потребовалось бы и двух прыжков, чтобы схватить его и сдавить ему глотку.