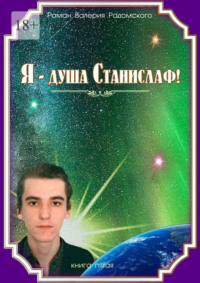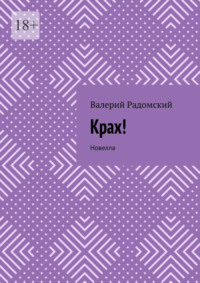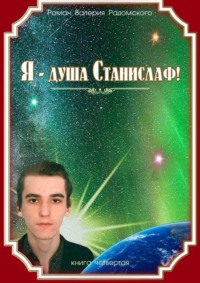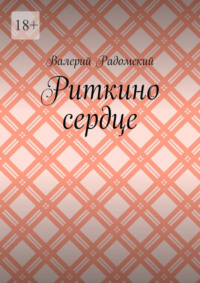Полная версия
…Я – душа Станислаф! Книга первая
Дядя Саша и папуля вышли из дома – нужно было очистить от снега площадку на входе в дом, где завтра установят гроб для прощания и отпевания. Я последовал за ними, но у меня были свои планы…
Ровно год тому назад, на районной олимпиаде по химии, я познакомился с Катей. Это знакомство – нас представили друг другу, так как мы были из одной школы – не стало формальностью потому, что имело продолжение. В тот день ей, семикласснице, исполнилось тринадцать лет, о чём и сообщила председатель комиссии перед тем, как выдать участникам задания. Я же решил блеснуть ещё одним своим талантом – чтеца – и, как только Катя привстала со своего места, взял, легонько и бережно, её под локоток, дождался, когда наступит полная тишина, и произнёс:
– Когда-нибудь в кругу знакомых лиц,
А может быть, случайных – суть не в этом,
Печаль моя надсадным криком птиц
Тебе напомнит обо мне. И ветром
Желание ворвётся в твой покой —
Желание увидеть, прикоснуться
К губам твоим, униженным тоской,
Не смеющим надежде улыбнуться.
Не покидай гостей – побудь с Судьбой…
Коль есть вино – налей! Секрет свиданий
Не выдавай, и потанцуй со мной
Под музыку своих воспоминаний…
Не знаю, почему именно это стихотворение папули я тогда прочитал Кате. Но я его так прочитал, …так проникновенно прочитал, что и сам смутился. Ещё и потому, что никогда ранее прикосновение к девчонке не доставляло мне такого удовольствия. Я тогда продолжал удерживать локоток Кати, а по моему телу растекалось тепло. Да что там растекалось – меня им окатило с ног до головы. Можно сказать, что я и примёрз к ней, и меня приварили сварочным аппаратом. И она не торопилась отойти от меня. Так мы и стояли друг перед другом, будто наконец-то встретились. Даже дыхание, казалось, у нас одно на двоих: она выдыхала – я вдыхал, я выдыхал – она вдыхала. И от этого воздух был непривычно сладким.
C тех самых не иначе волшебных минут школа стала для нас и местом свиданий. Катя робела от своего возраста, от одежды с детской символикой, её смущал и стеснял в эмоциях мой рост, громкий напористый голос, вид современно одетого молодого человека. Но сама уже в том возрасте имела такие девичьи формы и сияние в голубовато-серых глазах, что на неё засматривались и пацаны в школе, и взрослые парни на улице. Это меня бесило, и я страшно её ревновал. Опять же, говоря словами моего папули, кто сказал, что ревновать глупо? А любить?!
Вне школы мы встречались редко и втайне от Катиных родителей. Знали они о наших коротких свиданиях на пляже или нет – не знаю. Да и узнали бы, а что бы нам сделали? Ничего. Мы росли, чувства наши крепли – вот такая она, моя история по-настоящему чувственного влечения подростка к девочке.
…От дома я направился к пляжу. Меня влекло туда чувство той самой первой влюбленности. Оно было не только моим – его мне подарила Катя, и сегодня оно должно остаться с ней. Как пророчески сказал мой папуля: в музыке её воспоминаний. И она не задует сегодня свою четырнадцатую свечу на праздничном торте – будет искать уединение и найдёт его там, где мы не по-детски взволновано, наблюдали, как бирюза моря на горизонте целовалась с небом. Мне так хотелось тогда быть морской волной или небом, и вот – я волна подо льдом, небо, зашторенное падающим снегом, только Катя – горизонт нашей разлуки навсегда. И пусть даже так, но почему я решил, что море целовалось с небом? Почему не с горизонтом, и небо – тоже с ним?! Конечно, всё это метафоры от подражания своему папуле, хотя и разлука может быть дорога. И я это чувствовал сейчас, значит, так и будет: я поцелую Катю в первый и последний раз, чтобы пророчество стихов, прочитанных мной год назад, стали для неё очевидностью.
Катя знала, что меня уже нет в её земной реальности – ей сказал об этом отец, водитель микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter». Обнимая и прижимаясь к мамуле в салоне, я слышал их разговор, когда он ответил ей по телефону – везу умершего вчера в Херсоне, от рака крови, юношу с твоей школы и его родителей и что свои поздравления он скажет ей дома, так как для этого сейчас совсем не подходящее время. Я узнал папу Кати ещё во дворе больницы, когда с другими мужчинами из ритуальной службы он заносил моё тело в салон. Тогда гроб был открыт, но он меня не узнал. Болезнь пролила на моё лицо неузнаваемость, а так он бы, конечно, вспомнил меня. Пожалуй, я был первым претендентом на сердце его дочери, не уступивший его отцовской воле. …Когда мы с Катей возвращались с олимпиады – а наши дома были в одной стороне, его-то мы и встретили. Сблизившись, он сказал, что его дочери ещё рано ходить с кавалерами, на что я ему ответил – я не кавалер, а Станислаф, учащийся 11-А класса, член школьной команды. При этом первым подал ему руку, а он, смутившись, или только сделав вид, что смущен, ответил на мой жест и пропустил нас вперёд. А сопроводив нас к своему дому, юркнул за калитку, бросив через плечо – только недолго!
Чувство не обмануло меня – Катя уединилась на пляже, прячась от настырного ледяного ветра за металлическим киоском.
Я подошёл к ней так близко, так решительно и с таким нетерпением, что нас сразу же окутал густой-густой туман, а снег пролился дождём. И это был летний дождь в январе, как и тогда, прошлым летом: когда с пирса мы любовались зарёй, зависшей над морем, а небо неожиданно расплакалось. Может быть, от счастья, которое мы проживали в эти минуты вместе, может, и от несчастья – небо знало, что наш первый закат станет для нас и последним.
Туман упал Кате в ноги, клубился во все стороны от моего волнения, а снег стремительно таял вокруг неё. Она не была напугана тем, что наблюдала. И даже не удивлена. Только приподняла руки, подставив ладони дождю, и по-прежнему всматривалась вдаль. Теперь этой далью был я. Она дышала порывисто, со стоном, но даже такое её дыхание мне было приятно и дорого. Было страшно и ужасно от того, что я сейчас представлял собой в земной реальности. Приведение – это в лучшем случае, а влюбленное ничто – в худшем. Да и не целовался я ни с кем – не успел. Но завтра меня не станет, и я, желая и боясь одинаково сильно, коснулся её губ моросью, порывом ветра сорвал с головы капюшон и обнял. В запахе её светлых волос было что-то родное до боли, а в откровении глаз печаль лишь усиливала эту боль. Но что есть моя боль, если сам становишься болью для дорогого тебе человека!? И этот человечек – не моя уже земная Катя, не моя, но ещё в моих объятиях, какими есть всего лишь влажный клубящийся туман! Зацелованная стаявшими снежинками она разомкнула губы и наконец вдохнула от меня чувство, какое я сберёг для неё, несмотря ни на что. Я обязан был отдать его ей, чтобы моя мальчишеская любовь не томилась бесконечно от неприкаянности, и чтобы она, Катя Гриневич, была желанна и любима в её земной жизни, как желал и любил её я. Но я отдал ей не только своё чувство.
Две или три весны кряду на кончике моего носа, с правой стороны, чётко проявлялось пигментное пятнышко светло-коричневого цвета. Родинок на моём теле было много, но это пятнышко всякий раз исчезало, когда я вспоминал о нём, разглядывая себя в зеркале. Как-то, разыскав Катю во время школьной переменки, я заговорил с ней о приближающемся дне 8 марта, давая понять наводящими вопросам, что хочу сделать ей подарок. Такое вот не совсем признание в своих чувствах, да всё же зарумянило ей щёки и участило дыхание. Я даже забеспокоился – сейчас уйдёт, как случалось до этого не раз, и скажет и не раздражённо, и не с сожалением, что она ещё маленькая. Но так не случилось: оставив в покое серебристую косу, с привычно вплетенным в неё густо синим бантом, Катя, сначала, успокоила меня улыбкой, а затем ответила вполне серьёзно – так мне показалось, – что хотела бы в подарок это моё пигментное пятнышко. И придавила пальчиком то место на своём лице, где хотела его видеть: над верхней губой с правой стороны. Такое у меня было впервые – я вспомнил о своём пятнышке и – увидел его в зеркальце Кати. С тех пор оно стало как бы нашим, общим, и больше не исчезло. И только что, поцеловав Катю в то самое место – над верхней губой, я пометил её своей любовью. Первой! Единственной! Несчастной, но не безответной!
Катя не знала, и знать не могла, что так внезапно успокоило ей сердце. Оно забилось ровно, будто до этого торопилось за чем-то, а это что-то – на губах: ощущение моросящей и приятно прохладной нежности. Она не понимала, откуда оно и почему, сейчас, когда её, девочку, душили первые женские слёзы. Но не могла и не хотела отказать себе в том, что ощущала. Когда-то она этого втайне желала, стыдясь своего возраста, но не выразительных форм женственности, а теперь хотела ещё и ещё этой завораживающей нежности на своих губах. Губы плавил огонь, но он не сжигал. Только всё проникал и проникал в неё откуда-то сверху, и она потянулась к нему, оторвавшись пятками от песка, чувствуя при этом, как что-то беспокойное удерживает её, дрожащую отчего-то, в таком, устремленном к чему-то неподвластному объяснению, положении тела. И ничто её не напугало. Ни летний дождь в мороз, ни осенняя морось, ни шалый весенний ветер. И ей не кажется – нет, не причудилось, что она слышит ломающийся в интонациях голос. Она влюбилась в него раньше, чем в того, кому он принадлежал. Только голос был внутри неё самой, потому Катя читала сама себе стихи, которые никогда до этого не слышала:
«Я ухожу. Ты не смотри мне вслед —
Твой взгляд, как руки, ляжет мне на плечи.
Любимая моя, так будет легче
Расстаться нам на перекрёстке лет.
Года мои умчались – не догнать
И не вернуть их – время не стреножишь.
Нам остается только вспоминать
Всё то, что ты забыть не сможешь…»
Вдруг туман рассеялся, снова повалил жёсткий снег, а настырный ветер с моря, точно ледяной водой окатил с ног до головы. Мгновенный контраст температур сбил Кате дыхание. Нежность ощущений схлынула так же внезапно, как минутой ранее всё вокруг неё заклубилось, пролилось, заморосило и выпалило снег до песка. Осознание случившегося наконец-то испугало. Озираясь по сторонам и при этом прикрывая ладонями губы, будто стыдясь за то, что эти губы прочувствовали, она громко и горько зарыдала. Не отошла – отбежала от киоска. Я видел это, но сам уже уходил от неё, так же торопливо, как и она от бирюзы во льду, закрашенного снегом горизонта и жестяного неба. Уходил без моего чувства, которое мне больше не принадлежало. Я, душа Станислаф, в первый и в последний раз прощался со своей земной любовью, повторяя как заклинание поэтические строки своего проницательного папули:
«Любимая моя, я ухожу.
Не позвала ведь в свой январь игривый…
Но, видит Бог, я был с тобой счастливый,
Если разлукой даже дорожу!»
От Автора.
Катя вернётся домой нескоро. Впервые она позволит сама себе, и решится на это, брести холодными и сумрачными улицами страдающей и плачущей. Её путь – полёт голубки над местом, где её сизокрылый голубь навсегда сложил крылья: она несколько раз подойдёт к дому Станислафа, но постучать в дверь, назвать себя и попросить разрешения проститься с тем, кто ей дорог и любим, на это детской любви не хватит.
Зимние сумерки лягут Кате на плечи вместе с ладонями её отца. Они уйдут, никого не потревожив. И тревога в печали уйдёт вместе с ними напряженным молчанием.
В тёплой, уютной, но затенённой комнате Катю будут ждать четырнадцать свечей на торте и подарки. Свечи сгорят произвольно, так как мама и её дочь, именинница и красавица, проплачут в соседней комнате до позднего вечера, утешая одна другую. Целуя дочь и желая ей доброй и спокойной ночи, мама заметит над её верхней губой, с правой стороны, светло-коричневое пятнышко. Она коснётся его пальцами, чтобы убрать с лица то, что это пятнышко представляло собой на самом деле, да чем больше она усердствовала в этом, тем пятнышко становилось темнее и выразительнее. Удивлённая и обескураженная скажет об этом Кате, та тут же бросится к зеркалу – закричит, то ли в ужасе, то ли от чудовищной догадки: «Это был он! Мама, он приходил…, приходил, чтобы проститься!..»
Она уснёт лишь под утро. А до этого запишет в своём личном дневнике: «24 января 2018 года. Сегодня, на пляже, я целовалась с Чудом! Я не сошла с ума, но это был Станислаф Радомский, хотя он вчера умер. Он оставил в память о себе знак – только он знал о моём желании иметь родинку на лице».
Катя проживёт большую и, в основном, благополучную жизнь. Разобьёт не одно мужское сердце, но замуж выйдет не по любви. Родинка от Станислафа, эта романтическая деталь её внешнего очарования, на протяжении всей жизни будет понята ею, и принята, как символическая густая и коричневая точка в конце короткой личной чувственной трагедии. А между тем человеческое тело, как и спичечный коробок, выполняет свою задачу раньше последней сгоревшей спички. Только тело не выбрасывают и не ищут ему какое-то другое применение, а отдают земле. А душа – это живой огонь. Божья искра, как обычно говорят. Потому никогда не гаснет – пламенеет вечностью. И в этой вечности человечьих душ Катя встретится со Станислафом, и родинка на её лице, над верхней губой с правой стороны, обретёт-таки значение нескончаемой Любви!
Вернувшись в дом, я застал мамулю и папулю в разных комнатах. Каждый по-своему переживал мою физическую смерть. Может, горе и объединяет, но не в нашем случае – я это чувствовал. Они сопротивлялись этому, оттого встречаясь у гроба, попив кофе или покурив, обнимали и прижимали один другого в обоюдном желании хотя бы ещё на несколько минут стать снова единым целым. Вместе плакали, оплакивали, сетовали, но по-разному любили друг друга. Поэтому папуля не мамулю мою обнимал и прижимал к себе – свою любовь ко мне в ней. И от этого было очень больно: как и в случае с Катей, эту боль привнёс в их теперешнюю жизнь я. Завтра я покину земной мир, а их любовь ко мне станет непомерной и невыносимой.
До утра я просидел у гроба. Когда сам, когда с родителями. Маму переполнял страх предстоящего погребения того, кто навсегда покинет её земное завтра. Отец покаялся передо мной, с тяжёлым сердцем рассказав о том, что в его жизни были две смерти, которым он не то что бы был рад, но и не ощутил сожаления. Наоборот, ему даже дышать стало легче. Только до сегодняшнего дня тошно от себя такого. В этом облегчении через само собой разрешившиеся проблемы отсутствует человеколюбие и сострадание, а совесть и стыд, если они есть, не дадут покоя всё равно. Сейчас он понял, что смерть приходит не столько за человеком, умертвляя его, сколько за жизнями родных и близких ему людей, а чьё-то бессердечие помогает ему в этом. Пришла за одним – ушла с несколькими. Пока ничего этого нет в его маленькой семье, да он дважды, выходит, помог смерти торжествовать…
Процедура отпевания батюшкой, которому в реальности не было и тридцати лет, была нудной и утомительной ещё и от капризного мороза и такого же ветра, то и дело задувавшего свечи и обжигавшего собравшихся стаявшим воском.
Прощание у школы я не видел – ушёл от траурной процессии раньше, чем она туда подошла. Знаю лишь, что моё тело не показали никому. Зачем? Зачем видеть знавшим меня ретушь смерти на моём лице?! Подлинность меня, если можно так сказать, не нуждалась в её искусной мазне. Правильнее – если я останусь в памяти таким, каким меня знали и запомнили, а не ужасом увиденного. Ушёл же я от школы потому, что в последний раз увидеть своих одноклассников и преподавателей перед тем, как отправиться в Вечность – это и наказание для души за взаимность чувствований. Они мои, и я их прожил.
На кладбище, в селе Красное, что на берегу озера Сиваш, гроб с моим телом опустили в могилу. Перед этим вконец измученный страданиями папуля попытался что-то сказать обо мне напоследок, но мамуля простонала, что мне холодно – папуля первым бросил три горсти земли в могилу. На погребении присутствовали только соседи, оттого тело отдали земле быстро и без суеты. И настал момент, когда холмик над могилой обрёл форму кладбищенского места захоронения и памяти об усопшем. Памяти без радости, а воспоминаний с болью. Под единственным знаком проявления человеческих чувств – кому он был дорог и кем был любим: печали. Эта печаль не подвластна утешению никем и ничем. Но я – душа Станислаф – жив ведь?! Жив! Жив! Жив! И мне так же нетерпимо больно, как и моей мамуле, в моей синей осенней куртке – она её греет и сейчас, в январский мороз на ветру. Она в моей подростковой шапке, на её шее – мой коричневый шарф. Она вдыхает ещё мой запах – отобрать у неё эти вещи, и она задохнется от морозной свежести.
Папуля стоял на коленях и выл волком, истекающим кровью. Он не проклинал судьбу – просил о милосердии: добить его шальным камнем, свинцом неба, чем ей угодно, но оставить его здесь, рядом с сыном. Я метался от папули к мамуле, от мамули к папуле, понимая, что это наши последние земные минуты кровного родства. Целовал им руки и просил у них прощения. Запинаясь и сбиваясь на крик отчаяния, признавался в сыновней любви и верности, даже в мальчишеских обидах и провинностях. Они меня не слышали потому, как не могли, но я должен, обязан был им об этом сказать. И я говорил, не умолкая, так как всё: кем был и что я сделал и прочувствовал на Земле, останется здесь же. В памяти людей, кого я знал и не знал, в сердцах моих родителей. Ещё минута-другая и глаза мои – это всё, что не тленно в теле Станислафа, – закроет Вечность, забрав меня, его душу, к себе.
Папуля продолжал стоять на коленях перед могилой и голосил, когда мамулю соседка Галина Дмитриевна и подруга Люба повели, под руки, в микроавтобус. Своё последнее земное время мне хотелось провести с родителями, но их личные переживания развели их, к моему сожалению, по сторонам. Я стоял, где-то, в центре этой дистанции. На свеженаброшенный холмик над могилой падал густой и горький, точно дым, снег, из-за кладбищенской ограды Сиваш, весь в белом, веял ледяным холодом… Это последнее, земное, что я видел.
Глава вторая. В лабиринтах Вечности
Вечность человечьих душ – это пространство, заполненное их сияниями. Сияний так много, что проще ответить на вопрос «А сколько же их?», сравнением с земным ночным небом: так много, как звёзд. Сияния разные по цвету и своим оттенкам, они перемещаются, накладываются одно на другое и неподвижны. Пространство многомерное и многоуровневое. Я нахожусь на уровне земного светового дня, от рассвета до заката, 23 января 2018 года. Здесь все умершие в этот период.
Рассматривать и вглядываться в Вечность моими глазами – значит, созерцать радужную безмятежность. Не покой, оказывается, очищает душу – безмятежность. Это новое качество в человеке, благодаря которому возникает новый взгляд на сущее: земная суета теряет власть над душой и обретает форму истин с единственным смыслом: взирать на мир и принимать его таким, каким он есть. Безмятежность Вечности не нуждается в опыте земного проживания, попавшая сюда душа наделяется безмятежностью изначально. Потому мириады сияний приятны взору. Это, если взирать на Вечность. А находится в ней, по ощущениям – упасть с ночного неба в рассвет при уме и памяти. И хотя подобное трудно себе представить, это так. Но реальность Вечности и сурова: ты – всё и ничто!
Душа не обезличена в том, кому она принадлежала на Земле. Во мне внешность Станислафа на протяжении им прожитых лет и дней, его эмоциональный и прагматичный ум и память. Вот это и есть условное «всё», а «ничто» – во мне больше нет противоречий самому себе, я – чувственный лист Вселенских истин. Они прописаны во мне, но так сложны в понимании, что не буду даже пытаться их сформулировать.
Моё настоящее в Вечности обусловлено тем, что есть я, душа Станислаф, и это мной осознается, но моё будущее – путь в бесконечность совершенства души человека. На этом пути души сгорают, являя собой ничто в земном понимании, но не во Вселенском, или, одухотворяя биологическое живое, становятся снова активной формой его существования. Ничто станет материалом Вселенной для создания чего-то ей нужного и разнообразия себя, а вот душа человека будет эволюционировать во благо осознающего себя живым.
Замечу, что Вечность, как по мне, не оригинальна – человек многое уже разгадал в ней, зафиксировал и озвучил. А всё потому, что человеческие боги в их сердцах и душах живут в качестве прорицателей, и не более того. Бог – это сам человек, только не знает об этом наверняка. Он подобен очеловеченному Иисусу Христу и не случайно поэтому в нём человек воссоздал теорию эволюции души, возведя в степень, понимаемую как совершенство. Однако, как сам же знает и принимает за аксиому, у совершенства нет ни ограничений, ни пределов.
Когда-то я стану кем-то, живым, в земной реальности, но не чем-то во Вселенной, если не сгорю в лабиринтах Вечности, не приняв её откровение: не всё можно понять и постичь, но земная жизнь ко многому обяжет прикоснуться сердцем, совестью, честью и даже лбом – в косяк! Где-то так. Значит – вперёд, исключительно осмысленно. Значит, я должен оставаться инициативным и амбициозным, а таким был Станислаф-человек, и не закрывать перед собой ни щели, ни двери, ни что бы это ни было перед представившимися возможностями покидать Вечность. Эта дорога предопределена возвращением с тем, что по земной осторожности и стечению обстоятельств Станислаф не получил в полной мере как познание. Ведь человеку предстоит заполнить Вселенную сознанием и чувствами – он единственный и уникальный носитель способностей души.
Без души человек – зверь, да почему-то человек звереет душой. Для меня, сейчас, всё просто: земное живое, не осознающее себя, эволюционирует, только не наравне с человеком. Но человек не избежит, сначала, конкуренции с живым миром планеты Земля, а в дальнейшем и жесточайших войн за доминирование над живым и уже себя осознающим. И чем больше земного он берёт исключительно для себя, тем быстрее инстинкты и рефлексы включат механизм сознания в тех видах живого, что стоят к нему ближе в ряду способных логически и творчески мыслить. Человек, охотник и банальный убийца, сам непреднамеренно осуществит отбор таких видов. Здесь уместна аналогия: всё, что не убивает, делает нас сильнее. Однако сила земная не есть сила Вселенной, предполагающая земное «нас» в единственном значении – живое!
Закономерен вопрос: мне, всего-то, шестнадцать лет, шесть месяцев и двадцать три земных дня?.. Я уже говорил: во мне не одна библиотека знаний, открывшихся мне в Вечности. И такие же библиотеки – в каждом пульсирующем сиянии душ, какие мне видны и интересны.
Цвета и оттенки отображают состояние душ в определённый момент, но, как я успел уже подметить, душа в состоянии неподвижности обозначает себя одним чётким цветом. Моя ассоциация – детские шары в прозрачном земном небе, но их так много, что прозрачность условна. А что не есть условностью, так это – личное пространство каждой души внутри шара. Оно заполнено всем тем, что я могу, к примеру, чувствовать, видеть, слышать и осмысливать. Каждое моё видение, чувство и мысль – оттенок, как бы сказали на Земле, титульного цвета. Отсюда и зарницы вокруг меня в цветах радуги, но нет раскатов грома или чего-то ещё.
В Вечности тихо. Хотя, как и в любой другой душе, во мне нет этой тишины безмятежности. Мои глаза закрыты, я – сияние, в основном зелёного цвета, и поглощен своими чувствованиями или брожу где-то воображением, глаза открыты – готов к общению с другими душами. Пока что ни одна душа не проявила ко мне интерес, только я знаю – когда это случится, увижу чьи-то глаза напротив своих глаз и только за мной решение, хочу или не хочу общаться. Если захочу или посчитаю для себя нужным, тогда наши личные пространства станут относительным целым и мы, души, предстанем одна перед другой в виде тех, кому обязаны своей вечностью.
Для такого случая я пребываю в образе Станислафа, отмерявшего на асфальте размеренность и предсказуемость его последней осени широкими, увлекающими за собой отца, шагами. Элегантно и со вкусом одетые они направлялись в школу на торжественную линейку, после окончания которой – первоклассники сядут впервые за школьные парты, а Станислаф переступит порог школы в ранге выпускника.
Отец – во всём черном: костюм, рубашка, туфли, лишь серебристо-серый галстук и к тому же удачно контрастировавший на таком фоне. Станислаф – высокий ростом, не мене метра восьмидесяти, уже выше отца, и стремительный. Коротко остриженный, но с тёмной шевелюрой блестящих на солнце волос, впереди рассыпавшихся на лоб и виски. У него волевой, слегка вытянутый вниз подбородок, широкий в переносице не маленький и не большой нос – соразмерный голове и телу, чтобы смотреться красивым и обаятельным юношей с открытым взглядом. В этот раз он предпочёл комбинированный стиль: тёмно-синий пиджак с овальными коричневыми накладками на локтях, в нарядной рубахе, светлее пиджака, и, опять же, с коричневым воротником, в джинсах и туфлях из мягкой тёмно-синей замши. Он и сам себе нравился, ещё и потому, что месяцем ранее, проработав в аквапарке инструктором, сам заработал на эти обновки деньги. Оттого его карие глаза казались светлее обычного от уважения к себе, а радость в них ликовала.