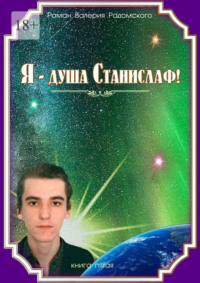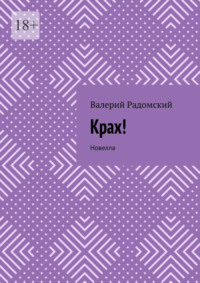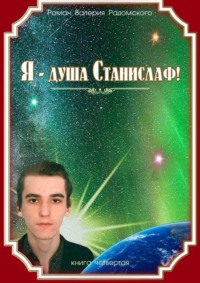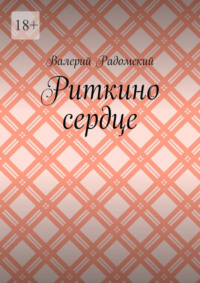Полная версия
…Я – душа Станислаф! Книга первая
Тремя этажами выше я впервые утратил чувство реальности. То ли мне снилось всё то, что я принимал за неё, то ли я очень хотел, чтобы реальность была всего лишь моим сном. Как бы там ни было, но страх отыскал меня именно здесь. Эта ночь была первой ночью кошмарных видений, не объяснимых и не осознанных. Покой ушёл от меня, а его место заняла въевшаяся в мозги тревожность. Я по-настоящему испугался своего положения: из меня вытекает больная кровь и она же, минута за минутой, убивает мой организм. Хотелось домой. Так этого хотелось, что жалость к себе всё равно прорвалась в мои чувственные ощущения. Боль я ещё мог контролировать, но тревожность и страх, будто соревновались во мне, чья возьмёт! Страх оказался сильнее и больше. Оттого я заплакал навзрыд, как только увидел мамулю и папулю. И попросил их тут же забрать меня из реанимации. Папуля решил всё и за всех: в своей палате гематологического отделения я немного успокоился. Моему возвращению в отделении были рады, но с моих растрескавшихся до крови губ вслед за покоем ушла и улыбка.
Ещё неделю за мою жизнь боролись. Правда, не по «протоколу №1». Две недели назад только воспалительный, а сейчас уже и инфекционный процесс в левой руке стал необратимым и угрожающим. Химиотерапию отменили. Поэтому раковых клеток в крови становилось всё больше и больше, а иммунитет полностью утратил состояние невосприимчивости к таким вызовам и угрозам. И мои органы один за другим начали давать сбой. Медикаментозно организм удерживали в функциональном состоянии. Из смены в смену. По крайней мере пытались это делать, чем могли и как могли. Но в моих венах уже не было здоровой крови – яд растекался по телу и оно умирало. Вслух об этом никто не говорил, а я не осознавал, что дни мои сочтены. Потому что мой мозг угасал. Всё чаще я заговаривался, а недоумение на лицах вызывало во мне гнев и, одновременно, чувство вины. Мамуля всё чаще и громче молилась за моё выздоровление – всё реже я открывал глаза, и тише билось во мне сердце. Точно пряталось от инфаркта …до глубокой ночи, когда он и случился. Потом оно будто что-то кричало всем, кто имел ко мне отношение – так оно порывисто громко стало биться.
21 января (2018 г.), ближе к вечеру, прочувствовав ясность в мышлении, я позвонил папуле. Во мне вызрела решимость повыдёргивать из себя все иглы капельниц, отсоединить от себя технические устройства, контролировавшие работу внутренних органов, после чего сказать дежурной бригаде врачей и медицинских сестёр «всем спасибо», и уехать домой. На это я и попросил у него разрешения. Он мало в чём мне отказывал, если только речь не шла о моей личной безопасности и безопасности нашей семьи. Потому ждать от него согласия не приходилось. Но я поставил его в известность о своей готовности так поступить – таким он меня воспитал.
Я слушал папулю и понимал, как сильно его люблю. И как хочу быть таким, как он: богатым умом, красивым и приятным в своих поступках. И стану таким, как он! И для этого мне нужно – домой! С мамой мы покинем больницу сейчас же, после разговора по телефону. Она подчинится моему решению – мы дороги друг другу, и оба достаточно настрадались. Вот она – рядышком. Моя мамуля! Мамочка моя! Моя снежная королева Елизавета, поседевшая за один месяц. А в глубине коридора отделения, где я не мог её видеть, навсегда выплакавшая зелёный цвет глаза. Только я всё слышал. И не желаю больше быть её счастьем в её же несчастье!
Между тем папуля продолжал меня отговаривать от задуманного. Голос был тот же, а интонация мягче. Так он разговаривал со мной, когда хотел быть услышанным. Его чувства и переживания ускоряли речь. Закрыв глаза, я представлял себе, как он сейчас непременно ходит по комнате, или машинально переходит из столовой в зал, из зала опять в столовую или в одну из спален, не давая при этом покоя рукам. «…Если ты отключишь системы, – заключил он, – сначала умрёшь ты, а после тебя – мы с мамой! Я ведь не говорил тебе, что у тебя…» Папуля и в этот раз не смог произнести «рак крови». Он попросил передать телефон мамуле. Мамуля сразу же вышла из палаты, прикрыв за собою дверь. Я с трудом оторвал тяжеленную голову от подушки, поднёс к губам кисть правой руки и зубами стал выдёргивать из неё иглы систем. Затем то же самое продел с прищепками на кончиках пальцев. Аппарат, контролировавший работу головного мозга, предательски просигналил, а до розетки было далеко. На не прекращающийся громкий пульсирующий звук в палату вбежала мамуля. Следом за ней – постовая и манипуляционная медсёстры. Я был настолько слаб, что не мог оказать им сопротивление. Досада и щемящая пустота в глазах – это всё, что осталось во мне. Но и они были недолгими – мне что-то укололи и вскоре я уснул.
Что я спал, и очень долго, мне сказала мамуля. Её лица я не видел, хотя по голосу она была совсем рядом. У меня было такое ощущение, что теперь щемящая пустота вытекает из моих глаз кровью. Меня это удивило, но не испугало. Я потянулся правой рукой к глазам, но мамуля умоляюще попросила этого не делать. «Этой ночью у тебя было кровоизлияние в мозг, – сообщила она, целуя мои пальцы. – Господь не дал тебе умереть и это хороший знак. Ты справишься. Ты выздоровеешь – ты сильный! Не трогай свои глазки, сына, тебе лучше их пока не видеть». Потом я снова стал видеть. И осознавать, где я нахожусь. Сразу же вернулось желание прошлого вечера – хочу домой! А ощущение, что мои глаза всё же кровоточат, только усиливалось. Вроде с кровью из меня вытекали и мои страхи, переживания и видения.
Своей левой руки я не чувствовал уже несколько дней. Она точно вросла в простыню, обозначив своё окончательное и непререкаемое местоположение окровавленными бинтами. Никто её уже не беспокоил перевязками. Из прокола в районе локтя обильно сочилось то, что я не мог ни видеть, ни, тем более, определить. Но по запаху – мамуля удерживала мою голову в положении, чтобы меня не рвало, и периодически давала дышать кислородом.
Звенящий сумрак привычно заполнял палату. Моей последней реальностью было лицо мамули в оправе сбившихся волос. Она всматривалась в меня, будто что-то ещё не рассмотрела. А, может быть, этим взглядом она цеплялась за жизнь в несчастье, но со мной. «Куда ты, сына, туда и я!» – повторяла она одно и то же. Мне же хотелось чего-то приятного и бодрящего. Я сказал мамуле: «Когда мы вернёмся домой, ты купишь мне пива и разрешишь выпить его в нашей столовой. За столом, где обычно сидит наш папуля. Он разрешит – я знаю. Это место хозяина в доме он ведь бережёт для меня». Мамуля шумно согласилась. И даже улыбнулась – первый раз за столько дней! Горячие слёзы, наконец-то, растопили холод её глаз. Их цвет стал зелёным, искрящимся. Я в последний раз испытал восторг от того, что моё маленькое чудо свершилось: мамины глаза вернули мне цвет моей земной реальности. Как будто она знала, что именно я хочу ещё раз увидеть и прочувствовать.
Не пройдет и минуты, как ясность сознания покинет меня навсегда и произвольно сомкнутся мои почерневшие веки. Мамулю испугает моё дыхание – дежурный врач первым делом зажжёт в палате свет. Потом приоткроет мне веки и отдёрнет голову так, что это заметят все. Ознакомившись с показаниями работы моих внутренних органов за последний час, ещё раз подойдёт ко мне. Сожмёт легонько плечо, снова приоткроет веки, подождёт чего-то, не отрывая взгляда от плеча. Дождётся того, чего ждал, и шустро шагнёт в проём двери, указывая жестом руки – все за мной. Медсёстры выйдут из палаты, но будет слышно, с коридора, как одна из них скажет, что Римме Анатольевне уже позвонили – она ждёт…
Мамуля станет тихонько разговаривать со мной. Это поможет ей заговорить страх. Он настигал её всякий раз, когда я молчал. А в этот раз было иначе: её взбодрили и даже чуточку развеселили мои слова, как вдруг я смолк, не договорив. Веки сомкнулись, рот остался открытым, а вместо слов – только хрип из груди.
Я так и не сказал мамуле главное: что благодарен ей за подаренную мне жизнь. Прожил мало и оттого несправедливо по отношению к ней, но – в счастливой и внимательной ко мне семье. А какое яркое и богатое на приятные события было детство! А школьные годы! Вкусил даже юность – «сладкую как в зиму боярышник!». Это из стихов папули. Он и в этом прав: сладкая пора юность. Жаль: только вкусил – понравилось! Меня любили и дорожили мной. И я – любил, и даже был влюблен. Она приходила в школу ещё в белых шёлковых бантах, но меня волновала по-взрослому. Краснела, вжимала в плечики светлую головку, когда я подходил к ней на переменке и заговаривал с ней, а у самого, без пяти минут выпускника, дрожали голос и колени. Она не успела вырасти, а я не успел ей сказать, что буду этого ждать. И мамуле не успел сказать важные слова, и для неё, и для меня. И с папулей в последний раз говорил не о том.
Мамуля осторожно и нежно целовала мои глаза и так же, осторожно и нежно, гладила руку, которая никогда больше не сможет её обнять. Как и другая рука, левая, в которую месяц назад всадил иглу не иначе, как сам Дьявол. И не щемящая пустота в глазах кровоточила и вытекала – это я, душа Станислаф, покидал своё земное обречённое на смерть тело. С прошлой ночи, когда начался процесс разрушения сосудов головного мозга. В последний момент он-то и вбросил в меня память, воображение и много чего ещё из комплекса познавательных способностей и психических функций. Человеческий мозг – это предтеча формирования души.
Теперь я стоял рядом с мамулей – мог стоять, мог присесть, мог пойти, куда захочу, но душевные стенания родителей были и моими. Нам, всем троим, было плохо, как никогда до этого. Во мне не было физической боли тела. Оно лежало на постели переполненной медицинской грелкой из ещё живой плоти. Системы вливали в неё растворы, но в венах уже не было здоровой крови. И сердце будто задыхалось, и поэтому разбивало грудь. Она выглядела неестественно выпуклой и широкой. Такой же большой был и живот, а ноги растворили в себе колени и стопы. Мальчишеская голова с высоким лбом и сбившимися тёмными волосами проявлялась на белой подушке, вместе с тем маленькой-маленькой. В действительности она не была такой, да только она одна не утратила своей изначальной формы. И прямой нос, широкий в переносице, стал острее, как на морозе. И губы утратили цвет юношеской страсти. А глаза, …глаза теперь принадлежали мне – тело онемело и ослепло.
Мамуля тем временем молилась, утирая то и дело слёзы, не замечая мгновенного потемнения на коже, как только к этому месту прикасались её ладонь или пальцы. Ночь за окном и слабый свет с коридора скрывали от неё и синеву с желтыми краями, появляющуюся там же через несколько минут. Её красавец-сын, единственное настоящее счастье матери, ненадолго уснул, и никакого другого объяснения его полной неподвижности она не допускала. Я не мог ей ничего сказать – родные души способны лишь чувствовать одна другую, но мамуля любила, страдая в надежде, и ничего кроме этого ей не нужно было.
Заведующая отделением Римма Анатольевна, мои лечащие врачи – Ольга Сергеевна и Игорь Романович, со следами неспокойной ночи на лицах, застали мамулю в том же положении: склонившейся над моим телом и удерживающей над лицом кислородную маску. «Станислаф спит», – заверила она их сразу же, будто боялась, что у кого-то из них иное мнение. Римма Анатольевна, нервно разминая пальцы, ответила: «Пусть поспит». Врачи, зная, что это не так, а моё тело пребывает в коматозном состоянии, на тот момент ещё не решили, как об этом сказать. Переглянулись и вышли.
Ольга Сергеевна тут же направилась в ординаторскую, чтобы не расплакаться на коридоре. Игорь Романович шагнул к выходу из отделения – скорее, побыстрее закурить, чем зачем-то ещё.
Римма Анатольевна осталась одна. Посылая к чёрту гуманизм, но и перекрестившись заодно, она было уже коснулась рукой двери палаты, чтобы объяснить мамуле, в каком сне, с медицинской точки зрения, пребывает сейчас её сын. Не смогла вернуться. Мать внутри неё самой оказалась сильнее и категоричнее заведующей отделением. Отошла от двери, сделала несколько шагов вглубь коридора, к следующей палате, и остановилась – её больные детки-конфетки ещё спят, так как нет и шести утра.
На коридоре заведующая была одна – так ей только казалось. Хотя могло ли быть для неё иначе? Присев на диван, она по-мужски широко расставила ноги и заговорила сама с собой. Сначала корила себя непонятно за что, а после, маленькими кулачками ударяя себя по коленям, взывала к Станислафу: «Как же так, мальчик?! Ты ведь обещал помочь мне тебя вылечить. Ну что пошло не так? Ведь сколько таких мы поставили на ноги?! Неужели причиной всему – твой возраст: уже не ребёнок, но даже и не молодой мужчина. …Да, прекрасный возраст, но только не для лейкоза!..»
С той самой минуты, когда Римма Анатольевна произнесла: «Уже не ребенок, но даже и не молодой мужчина», предположение моего папули о пробитой вене в левой руке таковым и осталось. И для меня, и для него.
От Автора.
«Если и был укол Дьявола, то его сделала рука человека. И сделал он это непреднамеренно», – скажет отец Станислафа сам себе, проведя последнюю ночь с сыном. Как и Римме Анатольевне, ему тоже будет казаться, что его никто не слышит (совсем выбившаяся из сил Елизавета уснёт). А душа Станислаф положит голову ему на плечо и будет слушать. О Боге, который не помог, а он ведь так просил его заступиться за сына. Умолял забрать его жизнь взамен сыновней жизни. Честно признавался, что не верит в его существование, но просит о милости – значит, решение за Богом: он есть и всемогущ или его нет.
Фаталист с тридцати лет, Валерий Радомский задавался принципиальным для него вопросом: чьей судьбой, его или сына, предначертаны переживаемые второй месяц сумасшедшие боль и страдания? Если его, тогда он и есть та самая рука Дьявола. Так как дал сыну жизнь не осознанно, получая удовольствие от молодого тела. Узнав же от Лизы о беременности и её непреклонном решении рожать без его согласия и претензий к нему в будущем, он не взял возлюбленную на руки, не закружил и не зацеловал в порыве благодарной нежности. Оттого она исчезла из его жизни. И родила Станислафа не в Горловке, а в Донецке, в больнице им. Калинина. Этим, что он родился, озадачит Светлана Александровна, мама Лизы, к слову – на пять лет младше самого Валерия Николаевича, но порядочность и обязательность уважающего себя мужчины возьмёт в нём верх: вызовет такси и примчится к своему сыну. Не к его маме, нет, а к сыну, и день за днём, год за годом будет доказывать свою верность, преданность и отцовскую любовь. И Лизу он полюбит тоже, только по-своему: как старший возрастом на двадцать шесть лет!..
Судьба, предопределенность событий в жизни, была для него религией. Потому, сопоставив факты, выходило на то, что Станислафу не суждено было прожить больше. Думая об этом – а Николаевич то разговаривал сам с собой, то через глубокий-глубокий вдох переносил монолог внутрь себя, поближе к сердцу – просил его, чтобы оно остановилось за мгновение до остановки сердца сына. Склонившись над его изуродованным болезнью телом и вглядываясь в зияющие чернотой глазницы – а вдруг: «Привет, папуля!» услышит вместо булькающего хрипа, он знал что так вызывающе свирепо разрывало дыхание. Потому как видел это «что» в его глазах ещё до отъезда в Херсон. Тогда, дома, он чуть было не лишился чувств, заметив в открытом взгляде Станислафа угрожающий блеск непонятного, но явного. А выйдя из автобуса в Новой Каховке, размять ноги и покурить, тот улыбался, успокаивая и себя тоже: всё обойдется, но его обнаженные нижние зубы скалились. Не показалось – уже нет, вскрикнет тогда про себя несчастный отец, и с тех пор мысль о скорой смерти сына его не покидала. И к этому всё шло: знакомые и незнакомые люди помогли деньгами, проблема с донорской кровью решилась за один день, волонтёрские организации оперативно подвезли часть необходимых лекарств, а какие-то, из необходимых, были в отделении; не потеряв и часа преступили к химиотерапии, как вдруг – воспалительный процесс в левой руке, ничем не сбиваемая температура, и лечение по протоколу №1 приостановили. Вынужденно и временно. Да только кубик-рубик судьбы сына сложился не его любимым зелёным цветом. Такого цвета в кубике не было.
…А мамуля: как же с её судьбой?! Ведь, как сама не раз признавалась, наблюдавшие её врачи, осторожно, но целенаправленно, готовили юную Лизу к тому, что высока вероятность бесплодия. Но годами позже она встретила сорокасемилетнего Николаевича – чудо свершилось! Она родила мальчика с двумя порезами от скальпеля на лбу ближе к правому виску – при кесаревом сечении такое бывает. «Шрамы мужчину украшают!» – так извинялась перед сыном счастливая мама и с превеликим удовольствием целовала эти две тонкие и ровные полоски.
Поздний рассвет нового январского дня, двадцать третьего, застанет маленькую семью тонущей в горе. Лизу – в постели, давно для неё ставшей костром беспокойного сна, Николаевича – на табурете, больше похожим на тумбочку без дверей. Душа Станислаф будет гладить мамины волосы, а слабый утренний свет в окне лишь чуточку подрисует на стекле узоры морозной ночи. Они заблестят и обретут выразительность форм. Формы по-прежнему борющегося за жизнь тела спрячет простыня – под утро слёзы уже выжигали отцу глаза, – простыня при каждом шумном и порывистым вдохом будет дыбиться саваном, и что хуже – этого он уже не мог постичь.
Когда проснётся Лиза и, взяв полотенце, выйдет из палаты, войдёт простуженный врач-реаниматолог, ждавший за дверьми палаты этого момента. Извинится за горькую правду и сообщит Николаевичу – это всё! «Сильный характер у вашего парня, – поделится он своими наблюдениями, чтобы сочувствие в грубом голосе не было воспринято как преждевременное соболезнование. – Я это понял, когда его доставили к нам с кровотечением. Отваги в нём не на одну жизнь. Но …пора, папаша – простите! Пора ему снова к нам. Не надо, что бы это случилось при вас…»
Реаниматолог уйдёт. Николаевич зажмёт себе рот, чтобы не закричать. Его сердце забьётся так сильно и быстро, что даже дышать станет больно. И душа Станислаф тоже прочувствует эту боль. Глубокая – ни постичь, ни унять! Вернётся Лиза. Станет легонько прикладывать влажное полотенце к лицу сына, скажет в тысячный, а то и в стотысячный раз: «Сына, ты справишься. Ты же помнишь: куда – ты, туда – и я!» Николаевич, всё ещё прикрывая ладонью рот, так и не дождётся того, чего ждал от сердца несчастного отца. Оно не перестанет биться, только каждый удар станет для него мукой и наказанием.
Тело Станислафа подымут лифтом на шестой этаж. Простуженный реаниматолог примет его и поможет уложить на кровать. Отойдёт к окну, наглухо задёрнутому тёмно-синей шторой и, наблюдая за тем, как такую же, почти, цветом юношескую плоть накроет паутина из проводов, трубочек аппаратов, стимулирующих и поддерживающих угасающую в ней жизнь, скажет: «Здесь случались чудеса, парень! Видит Бог, я – свидетель. Стань ещё одним чудом, пожалуйста, стань, и живи!» Но чуда не случится. Отжившее свою земную жизнь тело Станислафа Радомского умрёт в тот же день, 23 января 2018 года, в 16 часов 23 минуты.
Ничто не изменит своей сущности – у всего такого свои предназначения и исходы, никто не услышит звуки, слова, музыку и песни земной тишины Станислафа – человека, сына, гражданина. Только – его душа, тремя этажами ниже. Где ожидание, по сути – ничто, вытеснит, выдавит, вытолкает из родителей мешающее им ждать, став подобным льду: холодным и горячим, прочным и хрупким, скользким и липким, прозрачным и непроницаемым. Оттого и глаза их во взгляде будут неопределенными в выражении.
А тем временем в душе, покинувшей тело, звенел голос из детства Станислафа: «Ой, догоню-догоню сейчас! Ой, зацелую-зацелую, Станика!», и душа Станислаф видел, как он, белобрысый карапуз, падает в высокую густую траву, переворачивается, кряхтя, на спину и закрывает от мамочки ладошками своё розовощёкое личико; из-за рассохшихся и крашенных-перекрашенных дверей класса Горловской музыкальной школы №1 доносились звуки фортепиано. «До» -«ре» -«ми» -фа“-„соль“-„ля“-„си“ вторил им детский голос, а голос взрослый, не строгий, но требовательный, наставлял: „Это не «си», Станислав, не «си»! Ну, когда же ты запомнишь, малыш?! Сквозняк с протяжным скрипом открывает дверь – малыш, в чёрном костюмчике, убирает ручонки с клавиш и, покачивая головой – ай-ай-ай, по-доброму произносит: «А Вы, Роза Львовна, когда запомните, что меня зовут не Станислав-в-в, а Ста-ни-слаф-ф-ф! И ударение – на „и“!»; из радиоприемника донесётся певческий лирический в интонациях баритон отца: «День добрый, уважаемые радиослушатели. В эфире „Радио Горловки“. У микрофона – редактор Валерий Радомский. Информационный выпуск начну с личного сообщения. Уверен, что буду понят правильно и всеми. Я далеко не стар, но и уже не молод, и меня, наконец-то, отыскало настоящее мужское счастье. Друзья мои, я по-настоящему счастлив: у меня родился сын!..» Голос растроганного папули утонет в накатывающейся волнами музыкальной композиции рок-группы «Ария», из груди солиста Валерия Кипелова проникновенно прольётся: «Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, и я свободен…, …Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне…, …Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра…» Ах, как же Станислафу близко было то, о чём пел солист «Ария», и как пел. Может, он предугадал свою земную судьбу? Конечно-конечно, лишь в какой-то мере, но теперь он действительно свободен от того, что устояло в веках в универсальном понятии «бытие».
Так слушая себя в забвении Станислафа, я едва буду поспевать за папулей, когда его пригласят к заведующей отделением. И надолго после известия о моей физической смерти они, вместе с Риммой Анатольевной, еще и озадачат себя тем, как об этом сказать мамуле. Её слова «Куда – ты, сына, туда – и я!» обяжут его, отрешенного и обессиленного до темноты в глазах, отыскать слова и, главное, момент для печального откровения. И только поздно вечером кроткая, нежная и беспомощная мамуля с едой и чистой одеждой для сына присоединится к ним. Ноздри уловят запах нашатыря, отыщут на столе заведующей заполненный желтоватой жидкостью шприц со стремительным блеском иглы, услышит стонущий шаг папули ей навстречу и всё поймет. Попросит ничего ей не делать, заверит в силах самостоятельно справиться с тем, о чём не хочет даже слышать, одним лишь жестом: выдвигая ладонь вперёд, запрокидывая голову назад и выдыхая при этом из себя слабость, чтобы первый её вдох в несчастье стал необходимой силой. «Я хочу его увидеть!» – скажет она, дрожа всем телом, и ничто и никто не сможет ей в этом помешать. А утром, после пустой ночи от бессмысленности того, чем и кем жила, тот первый вдох в несчастье продемонстрирует её и волевой характер: сама помоет моё тело, наденет на него коричневый костюм, белую рубашку и повяжет мой любимый галстук. Папули на самом деле, бирюзово-серый, но ставший моим давно. Поможет также приехавшим из Геническа работникам похоронной службы занести в салон микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» гроб, вишнёво-коричневый и излишне блестящий, укроет зеленоватым шёлком тело, и не выйдет из салона до приезда в Город тонкой воды.
Я снова был дома. Иметь дом – это здорово! Зима по-своему перекрасила стены с улицы и прибралась в маленьком дворике. А внутри – холод, порядок и аккуратность во всём.
Гроб внесли в мою комнату и без суеты разметили на диване под моим портретом, сделанном на компьютере. Фотомонтаж со смыслом: на голове корона, на меня одеты рыцарские латы, в руке меч, и надпись ниже: «За Родину! За Станислафа!». Так я однажды, совсем ребёнком, прокричал, играя в «войнушку» – эти слова и стали девизом нашей семьи. Символично? Может, и так. Скорее, даже так. Ещё и потому, что и в моём рождении, и в смерти моего тела также были символы. Знамения чего – этого я не знаю, тем не менее – я родился в Донецке, хотя прожил двенадцать лет в Горловке, четыре с половиной года прожил в Геническе, однако же, почему-то, тело моё умрёт в Херсоне?!
Уточнив у папули время на завтрашний день – когда гроб нужно будет вынести во двор, ритуальшики попрощались и вышли. И сразу же вошли соседи. Супруги Галина Дмитриевна и Василий Маркович, одногодки папули, дядя Саша – младше лет на десять. Говорили лишь их взгляды и дыхание. Особенность момента сковывала неловкостью их движения. Потому и слова соболезнования они будто бы нечаянно роняли на ладони мамуле, касаясь их в приветствии.
Ровный безмятежный голос с улицы привлёк внимание – пришла тётя Люба, подруга мамули. Уже с порога посыпались её наставления: что нужно сделать сейчас, до похорон, что не забыть сделать завтра. Это твердо поставило всех на ноги. Василий Маркович, глубоко натянув на голову с остатками седых волос шерстяную шапку, тут же за чем-то отправился. Дядя Саша отрапортовал о готовности могилы и похоронной команды, которую он возглавил, не задумываясь. И не только из-за сострадания горю людей, с которыми он едва толком познакомился, а ещё и потому, что моря и океаны – его духовная стихия – отобрали, взамен, семейные радости и даже невзгоды. Умер отец (годами ранее мама) – вернулся в отчий дом, без семьи – не создал. А всё потому, что желание дышать океанскими просторами перевесило всё прочее. Между рейсами в механике торгового судна просыпалось желание жениться и в семейной гавани наконец-то бросить якорь, да надежда на это всегда была крайне осторожной, оттого и не категоричной. А моя, то есть моего тела, преждевременная смерть и вовсе стала откровением: дети ведь тоже умирают раньше срока! И это потрясло до малодушия: никаких детей!