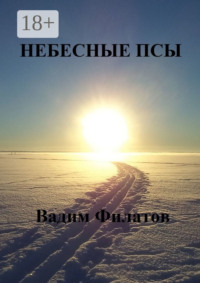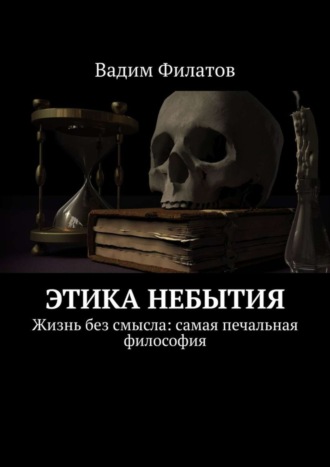
Полная версия
Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
Конец личности так же реален, как реально было ее начало, и в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти, – поясняет далее Шопенгауэр. – Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением, – следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение.
Внутренняя сущность, таким образом, остается недоступной для временного конца какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собою такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, это, в каждом являющемся существе, – его воля.
Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от интеллекта совершенно отлична и только одна первоначальна.
Со смертью, таким образом, погибнет сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание: гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявлялся.
Это не сознание, как и не тело, на котором, очевидно, зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием, т.е. именно то, что, попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания; и поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, т.е. что оно такое само по себе и безусловно, – этот вопрос должен остаться без ответа.
Ужасы смерти главным образом зиждутся на той иллюзии, что с нею «я» исчезает, а мир остаётся. На самом же деле верно скорее противоположное: исчезает мир, а сокровенное ядро, я, носитель и создатель того субъекта, в чьем представлении мир только и имеет свое существование, остаётся. Вместе с мозгом погибает интеллект, а с ним и объективный мир, его простое представление.
А вот дальше идет интересное: «Если в человеке не наступило отрицание воли к жизни, то смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивидуум, – таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе удивлённому размышлению. Воля человека, сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом и затем, согласно своим вновь модифицированным свойствам, получает в новом рождении новый интеллект, благодаря которому она становится новым существом, не сохраняющим никакого воспоминания о своем прежнем бытии, ибо интеллект, который один только и обладает способностью воспоминаний, представляет собою смертную часть, или форму, между тем как воля – вечная субстанция; вот почему для характеристики этого учения более подходит слово „палингенезия“, чем „метемпсихоз“. Эти постоянные возрождения образуют собою череду жизненных снов, которые грезятся воле, в себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной сменой разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя». [64, 5, с. 207—219].
Итак, воля в конце концов должна набраться мудрости и уничтожить сама себя. Получается, что от индивидуума здесь опять-таки ничего не зависит. Но почему Шопенгауэр был противником самоубийства? И зачем призывал к аскетизму и отрицанию воли ещё при жизни, если воля сама превосходно справится с самоуничтожением в надлежащее время? Вновь обратимся к первоисточнику: «Познание, как разумное, так и созерцательное, исходит первоначально из самой воли, принадлежит к существу высших ступеней её объективации, в качестве простого „приспособления“ средства к сохранению индивидуума и рода, подобно всякому органу тела. Предназначенное к служению воле, оно почти неизменно вполне к ее услугам: по крайней мере у всех животных и почти у всех людей». Однако: «В отдельных людях познание может освобождаться от этой служебности, свергать свое ярмо и свободное от всех целей хотения существовать чисто само по себе, в качестве ясного зеркала мира, откуда возникает искусство. Когда такое познание воздействует на Волю, может возникнуть самоуничтожение последней, т.е. смирение (резиньяция), которая есть конечная цель, даже глубочайшая сущность святости и избавления от мира… Самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, представляет собою совершенно бесплодный и безумный поступок. Именно потому, что самоубийца не может перестать хотеть, он перестает жить, и Воля утверждает себя здесь именно путем разрушения своего проявления, ибо она уже не в силах себя утвердить. Самоубийца, уклоняющийся своим поступком от страдания, похож на больного, не позволяющего довершить начатой уже болезненной операции, которая окончательно бы исцелила его, и предпочитает сохранить болезнь». [64, 1, с. 338—339] Вот здесь не совсем понятно. Чем рискует индивидуум, убивающий себя? Пусть как явление, но он ведь исчезнет вместе с сознанием? И что приобретает тот, кто решил терпеть до конца «болезненную операцию»? Поставим вопрос иначе: как тот и другой почувствуют на себе последствия своего решения самоустраниться или продолжать оттягивать свой конец? Цитируем дальше, и, кажется, подходим к самому главному: «Коль скоро воля к жизни существует, то её, как вещь в себе, не может сломить никакая сила… Самая воля ничем, кроме познания, не может быть упразднена… Вместе со свободным отрицанием, отменой воли, упраздняются и все те явления, то беспрестанное стремление и искание без цели и без отдыха, на всех ступенях объектности, в которых и через которые существует мир, упраздняется разнообразие преемственных форм, упраздняются все ее проявления и, наконец, пространство и время, как и последняя форма проявления – субъект и объект. Нет воли – нет представления, нет мира». [64, 1, с. 347—349] Всё вышесказанное определенно наводит на мысль, что, как ни абсурдно это звучит, Шопенгауэр верил в возможность уничтожения мира одним индивидуумом. Разве не достигается это простой смертью индивидуума? Нет, говорит Шопенгауэр. Иначе суицид был бы выходом. Но сознание-то все равно умирает. Да, но возрождаются новые индивидуумы, потому что воля продолжает существовать. Как её уничтожить? Посредством смерти индивидуума. Получаем замкнутый круг.
Говоря о суициде, уместно вспомнить о понятии свободы. Свобода от воли заключается, по Шопенгауэру, в аскетизме. Но это на самом деле никакая не свобода, а бесконечная борьба воли с самой собой, которая заканчивается только со смертью. И нет никакого критерия, позволяющего утверждать, что к моменту наступления смерти тела субъект уже полностью уничтожил в себе волю и умер осмысленно. Единственный случай, когда свобода может обнаружиться в явлении – это когда воля-сущность вступает в противоречие с волей-явлением (телом) и, отрицая последнее, уничтожает его. Однако самоубийство, или добровольная смерть, вызванная крайним пределом аскетизма, парадоксально представляет собой у Шопенгауэра феномен мощного утверждения воли.
В предисловии к собранию сочинений Шопенгауэра говорится, что философу был предложен двумя кадетами военной школы в Вейскирхене вопрос: как возможно продолжение существование мира после уничтожения какой-нибудь единичной воли; ведь воля едина и неделима, как же возможно, чтобы с прекращением моего единого сознания (оно субъект всего мира – представления) не прекратился тотчас же и мир? Шопенгауэр уклонился от ответа на этот вопрос, ссылаясь на его трансцендентность.
Мы подходим к мысли о том, что в рассуждениях Шопенгауэра отчетливо выделяются два уровня. Отсюда мотивация его философствования и вся специфика высказываемых им идей.
Основной уровень собственно философский. Шопенгауэр стремится взглянуть на мир отстранённо и, по возможности, объективно. Для философа важнее всего «вопрос разрешить». Важнее любого опыта собственной жизни, сколько бы этот проклятый опыт ни довлел над нами в каждый отдельно взятый момент нашей жизни. Исходя из такого понимания, Шопенгауэр не удовлетворяется решением проблемы для одного себя. Или применительно к любому абстрактному человеку. Нет, что ни говорите, а в суициде есть этот нехороший оттенок трусливого бегства. Досмотреть спектакль абсурда до конца – ведь к этому призывает вся внутренняя сущность философа, даже если он почти полностью уверен, что всё предсказуемо и финал не сулит никаких неожиданностей. Просто досмотреть – для очистки совести, для чистоты эксперимента, так сказать.
Известно, что на письменном столе Шопенгауэра стояли фигурки Канта и Будды. Последний тоже мог спастись от страданий, просто убив лично в себе волю к жизни. Чем он успешно и занимался, пока его не спасла сельская девочка с миской риса. Однако Будду не устраивала идея исключительно собственного спасения, он пожелал не больше ни меньше как избавить от страданий весь мир. А если бы он заморил себя голодом, то и буддизма не было бы. А ведь буддизм мадхьямики ближе всех остальных философских учений подошел к пониманию пустоты.
То же самое относится и к Шопенгауэру. Для него «решить вопрос», причём не только лично для себя, но и для всего мира, было делом философской честности. Но здесь мы уже выходим на второй, «человеческий, слишком человеческий» уровень мотивации его философствования.
А причины не слишком последовательного отношения философа к проблеме самоубийства ещё более очевидны. С одной стороны Шопенгауэр был мизантропом, что, казалось бы, должно было подтолкнуть его «за роковую черту». Но, с другой стороны, согласно свидетельствам современников, он был весьма трусоват. Например, спал с пистолетом под подушкой, поскольку опасался ночных грабителей. Обратите внимание: застрелиться под горячую руку совершенно не опасался, а вот мифических грабителей – другое дело. Ещё один момент: в первой половине 19 столетия тема суицида была под запретом. Трактат Давида Юма «О самоубийстве», написанный им в 18 столетии, опубликовали только в веке двадцатом. В то время большую роль продолжали играть, в том числе, и религиозные ограничения. При этом Юм, в отличие от пессимиста Шопенгауэра, весьма логично и честно разбивает в пух и прах философские, религиозные и бытовые предрассудки относительно недопустимости суицида. Однако Шопенгауэр, помимо того, что был весьма робкого десятка, отличался преувеличенными представлениями о собственной гениальности. Достаточно вспомнить его сложные отношения с Гегелем. Впрочем, справедливости ради, следует признать, что Шопенгауэр и был гениален, но об этом никто кроме него не знал. Естественно, что мрачноватый философ в глубине души до последнего жаждал признания. Возможно, он сам себе был не готов в этом признаться, но это так. И определенное признание всё-таки в итоге пришло. А ведь если бы он совершил суицид или выступил публично с апологией суицида, то никакого признания могло и не случиться. По крайней мере, при жизни философа. Возможно, поэтому Шопенгауэр был вынужден рассуждать о самоубийстве «применительно к подлости». Да ведь, в конце концов, его частная жизнь. Большую часть которой он провёл достаточно безбедно в качестве затворника, была не так уж и плоха. Чем не жизнь, достойная философа, пусть даже и убежденного пессимиста? Это не Ницше, который был вынужден читать за весьма скудное жалование лекции по филологии в Турине. Так что у Шопенгауэра имелось достаточно причин, и человеческих и общефилософских, для того чтобы не акцентировать проблему суицида, противопоставляя последнему резиньяцию и квиетизм воли.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.