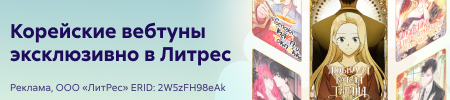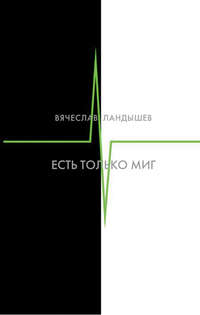Полная версия
Исповедь одинокого мужчины
В учебке я пробыл 25 дней. Автомат держал за это время лишь однажды – на присяге. Зато успел побывать несколько раз в Хабаровске на неоплачиваемой работе: долбил асфальт около центрального стадиона, копал городскую траншею под теплотрассу, смотря на величественный Амур. Там, во время этих работ, совсем рядом была желанная свобода, и к ней меня так сильно тянуло. Многие новобранцы из армии убегали, но в Советском Союзе тогда даже исчезнувший пистолет считался чрезвычайным происшествием на всю страну и его, как правило, быстро находили, не говоря уже о беглом солдате. Все было у властей под контролем. Но не это меня пугало, а тот факт, что стыдно было возвращаться домой сбежавшим из армии. В то время даже на тех парней, которые пытались от призыва уйти, смотрели неуважительно, а если солдат вообще из армии дезертировал, то смотрели на него с презрением. С таким позором я лично себе дальнейшую жизнь не представлял. Поэтому приходилось сжать зубы, терпеть и продолжать служить. Родители и спорт научили идти вперед даже когда тяжело. Часто произносимые вслух отцом и матерью на гражданке народные поговорки «Дорогу осилит идущий» или «Глаза боятся, а руки и ноги делают» в тех условиях морально помогали.
За короткий срок в учебке я увидел и первую беспричинную жестокость, и почувствовал первый голод в жизни. Помню также свои ощущения, что вкуснее всего, когда ты сильно и давно голоден, – это серый хлеб, соль и вода. Когда тебя длительное время мучает жажда – то мечтаешь не о молоке, лимонаде, кока-коле, пиве или соке, а мечтаешь о холодной чистой воде. А когда хочешь сильно есть, то мечтаешь не о пирожном, мясе, макаронах или картошке, а о хлебе, причем не белом, а свежем сером, он тогда в армии показался мне желаннее всех продуктов.
Кроме вкусовых, в тяжелые первые армейские дни сразу определились и душевные приоритеты. Мои разум и душа однозначно и безоговорочно выбрали самого дорогого для меня человека на всей Земле – маму. Хотя, наверное, это определение касалось только меня, потому что были случаи, когда мои сослуживцы каждую минуту вспоминали свою жену или любимую девушку, рассказывали мне, что именно сейчас делает их любимая, чем занимается, были мыслями где-то далеко, рядом со своей подругой. Я же про свою любимую девушку Таю, из-за которой и рванул в армию раньше своего 18-летия, чтобы избавиться от душевных страданий, забыл уже через неделю. Не до Таи, быть бы живым. Видимо, и не любовь это была, раз исчезла при первых трудностях. Но маму, отца, сестру часто вспоминал. Первое письмо я получил из дома, как мне тогда показалось, через целую вечность. Четыре дня в алма-атинском военкомате плюс большое расстояние для письма из Хабаровска в Алма-Ату и обратно – всего набралось дней 20 после моего ухода из дома. Помню, когда получил первое письмо из дома, то убежал из казармы без разрешения и спрятался за кирпичами стройки недалеко от нашего здания. Прочитав письмо, я заплакал. Это были мои первые слезы, наверное, после детского сада. Мне очень сильно захотелось домой, но я понимал, что ничего нельзя сделать и впереди еще почти два года этого бреда. Мама писала, что ей скучно в выходные почти целыми днями лежать на диване и читать книгу. Тогда у нас еще не было дачи, и мама, будучи трудолюбивым и деятельным человеком, страдала от безделья. «Мне бы ваши проблемы», – подумал я тогда и кисло улыбнулся. Потом вытер слезы, взял ноги в руки и пошел в свою тюрьму.
А еще через день после этого случился инцидент, который повлиял на мою дальнейшую армейскую судьбу.
После обеда один из сержантов, Сагайдак Егор, парень двадцатилетнего возраста, низкого роста, совсем даже не атлетического телосложения, не толстый и не худой, славянской внешности, с хитрыми серыми глазками, построил всю роту на нашем этаже посередине казармы. Сагайдак был дембелем и позволял себе без оглядки на остальных сержантов многие вещи. После того как Егор построил роту, он начал обходить строй с видом главнокомандующего маршала Жукова на Красной площади в День Победы. «Дедов» и дембелей тогда всегда можно было узнать по начищенным и отутюженным сапогам. При этом сапоги были на высоком, аккуратно обтесанном каблуке со множеством железных набоек, предназначенных для того, чтобы идущего «деда» было слышно издалека. Этот низкорослый полководец с походкой гусака и с выражением злобы на лице, дабы было для всех пострашнее, обходил строй и вдруг увидел, что я и часть рядом стоящих ребят смотрят не на него, великого, а куда-то вдаль, через его голову. Сагайдак обернулся и увидел предмет нашего внимания. Каким-то образом на пятый этаж забежала красивая кошка. Вся черная, чистая, с блестящей короткой шерстью, с белыми лапками и белым кончиком хвоста. Морально уставшие от новых после гражданки условий, солдаты-новобранцы воспринимали это живое существо, как нечто давно забытое и даже инопланетное. Оно было такое грациозное, красивое, свободное, гуляющее само по себе и где вздумается. Эта кошка была, несомненно, счастливее многих из нас людей – царей природы. Молодые солдаты невольно заулыбались. Слишком необычной была обстановка.
Я думал, что и Сагайдак заулыбается. Но сержант не изменил выражение лица, более того, оно стало еще тверже, еще жестче. Видимо, ему не понравилось, что кто-то нарушил идеальное построение его солдат. Сагайдак повернулся к нам спиной и пошел к кошке. Взяв ее за шкирку, он пошел к окну и, не доходя до окна два метра, со всего размаха выкинул кошку в открытую форточку с пятого этажа. За окном не было деревьев, там был асфальт. И не осталось никаких сомнений, что кошка разбилась насмерть.
В казарме повисла мертвая тишина. Все были изумлены, большинство испугалось. Я опешил. «За что? Зачем? Почему так?» – подумал я. Страха не было. Было непонимание ситуации и внутреннее страдание за безвинное животное. Видимо, жалость выступила у меня на лице.
– Что, Ландыш, кошку жалко стало? – цинично спросил меня Сагайдак, подойдя вплотную.
Вообще-то, когда тебя спрашивает старший по званию, то даже по Уставу требуется быстро, четко и громко отвечать, да к тому же сержанты наши зверели, если солдат сразу, мгновенно не отвечал на их вопрос. Но я в тот миг молчал. В глаза сержанту не смотрел, а смотрел прямо перед собой на стену и уже не спрашивал себя: «Зачем и почему он убил кошку?». Хотя я тогда не нашел еще ответа на этот вопрос, но уже думал о другом. Другие вопросы у меня тогда были в голове. Это были вопросы такие: «Кто рожает таких гандонов?», «Откуда берутся эти уроды?». Я продолжал молчать, но, наверное, лицо мое поменялось. Оно перестало быть жалостливое и сострадательное, оно стало другое. «Не трогай меня, пидор, уйди от греха подальше», – повторял я молча, про себя. Взгляд у меня стал холодный, прищуренный, как будто мне тяжело было держать веки, и они спокойно опустились на небольшую высоту. Наверное, так смотрят, когда хотят убить, но не напоказ и не в гневе, а когда находятся в одиночестве перед бессильной жертвой, когда никто не видит и тебе за это ничего не будет. Мое тело в тот момент не было сжато, как пружина, но и не было также вялым, оно было спокойным и расслабленным. Так спокойно стоят, наверное, убийцы перед связанным и обреченным на смерть человеком, ожидая только писка, чтобы, не торопясь, поднять руку с пистолетом, навести дуло между смотрящими на тебя жалостливыми глазами жертвы и нажать на курок. Сагайдак, видимо, увидел или почувствовал перемену во мне и быстро переключился на рядом стоящих солдат. Он сначала гневно начал придираться к бойцам по поводу их вроде бы слабо затянутого ремня, плохо подшитых белых воротничков, а постепенно удаляясь от нашего края, начал даже бить по щекам и пинать по ногам некоторых молодых солдат.
В будущем, в течение своей жизни, из собственного опыта и изучая историю, я отметил некоторую закономерность. Очень часто самыми жестокими людьми, совершающими просто бесчеловечные поступки, являются низкорослые мужчины. Наверное, их злоба начинает зарождаться еще в детстве, когда их, маленьких, а следовательно, как правило, более слабых, обижают в классах, смеются над ними, бьют не только в своем классе пацаны, но и девчонки, а иногда даже и младшие школьники. Если низкорослый человек не смог себя утвердить еще в школе, не повысил самоуважение в спорте или не добился успехов в отличной учебе, то он приобретает комплекс неполноценности, становится позже очень жестоким по отношению к другим людям, к животным и даже к своим родным, оставаясь при этом тщедушным, неблагородным и трусливым. Также часто низкорослые люди очень сильно стремятся к власти, чтобы при помощи ее наконец-то показать свою силу, доказать свое великое «Я» и заглушить комплексы детства. И, достигнув этой власти, творят такие вещи, которые остаются в памяти на века. Примеров много. Одни из ярких примеров – Наполеон, Сталин, Ленин. Историки пишут также, что и Ворошилов, и Буденный, и вся большевистская верхушка были очень низкорослыми. А уж об их «человечности» потомки, слава Богу, теперь знают.
Что касается Егора Сагайдака, то мне позже рассказали, что, когда он был молодым солдатом, «духом» и «черпаком», его сильно гоняли сержанты, не любили и всячески над ним издевались, унижая достоинство. И он в ответ не смог противопоставить ничего, а мирился с этим. Но вот подонок дождался своего часа и теперь отыгрывался на новом поколении молодых ребят.
После того как Сагайдак сделал обход роты, он с важным видом ушел в каптерку – небольшую комнату-склад, поручив дальнейшее командование отделениями своим сержантам-«черпакам». Роту распустили. Однако считалось, что солдат не должен сидеть никогда без дела, поэтому нам приказали привести в порядок и так уже отглаженные одеяла на своих кроватях. Кровати должны были быть заправлены не просто аккуратно, а с зеркальным отображением друг друга. Две белые полосы на однотонных темно-синих шерстяных одеялах должны были на всех кроватях переходить друг в друга исключительно без искажений на всем протяжении от стены до стены. Подушки тоже должны были быть на одинаковом расстоянии от изголовья. Их параллельность выравнивали по длинной нитке, натянутой двумя солдатами между всеми кроватями. Ну и, наконец, самым верхом этой безрассудной работы было то, что края одеяла, подвернутого под матрас, нужно было сделать прямоугольными, а не овальными. Для этого солдат должен был взять табуретку, перевернуть ее кверху ножками и, придавливая стулом сверху одеяло по краям, бить сбоку по одеялу ладошкой или другим табуретом, чтобы создать прямоугольные стороны у одеяла, а не закругленные. И такая практика, как оказалось позже, была не только в этой учебке, а везде, где я служил. Следовательно, можно предположить, что об этом знали офицеры и это шло не от наших сержантов, а данный порядок шел от офицеров, возможно, даже с их военных училищ. В моем понимании такой порядок никак не связан с профессиональной армией. Скорее, это порядок для армии дебилов.
Ближе к вечеру, когда все одеяла, подушки, кровати, табуретки и тапочки (кожаные сланцы) около табуреток по ниточке поравняли, когда в десятый раз, где только можно, протерли всю пыль и вымыли полы, некоторые солдаты, не зная, что еще делать, сидели на табуретках около своих кроватей, ожидая построения на ужин. Таких свободных минут было немного, и молодые бойцы не могли ничем заняться, как только курить в курилке или сидеть тихо на табуретах около кроватей. Любой шум, громкий смех и разговоры строго воспрещались сержантами. В казарме был телевизор, но его включали для бойцов в основном чтобы посмотреть воскресную программу «Служу Советскому Союзу» и вечерние новости перед отбоем, поэтому в полутемной казарме был слышен только негромкий разговор солдат – соседей по кроватям.
В это время из сержантской комнаты вышел выпивший сержант – дембель Игнатов в тапочках, в брюках и майке. Он был коренастым малым 20–22 лет, ростом под 175 сантиметров, родом из какого-то села Костромской области. Я с ним раньше за 20 дней практически не встречался. Вечером он лежал в дальнем углу казармы на кровати, спал или что-нибудь читал. А днем, как уважаемый дембель, никогда почти в командовании бойцами участия не принимал, ибо этим занимались сержанты-«черпаки». Была суббота, и в этот день недели «деды» и дембеля часто напивались, зная, что офицеры точно в субботу вечером в казарму не придут. После того как сержанты выпили в каптерке пару бутылок водки, Игнатов вышел из кладовки и зашел в одно из отделений казармы, прошелся между кроватями, остановился посередине отделения, нагнулся к тапочкам, поднял один из них и бросил через два ряда коек в сидящего в другом отделении солдата со словами: «Вы что, совсем охренели, “духи”? Кто так тапки ставит неровно?». В том отделении казармы, где находился Игнатов, никого из солдат не было, а ближе всего к дембелю, метрах в 7–8 от него, сидели на табуретках четверо бойцов нашего отделения, в том числе и я, каждый около своей кровати. Сержант кинул тапочкой как раз в одного из нас. Все, конечно, видели Игнатова и следили за его действиями. Тапочек был запущен точно в лицо одному из солдат, но молодой боец увернулся от него. Дембель начал свирепеть.
«Ты что, гандон, уворачиваешься? Сидеть смирно!» – прошипел он.
Потом нагнулся за вторым сланцем и кинул вновь в того же солдата. В этот раз тапок пролетел мимо. Сержант тут же нагнулся за новым сланцем и вновь кинул в ту же мишень. Боец опять видел и замах, и полет тапочка, но не посмел ослушаться в этот раз старшего по службе, не стал уворачиваться, и тапок попал ему в грудь. Игнатов остался доволен попаданием, но зло скомандовал: «Быстро принеси на место все тапки и поставь ровно, где они стояли». Боец, в которого попали, рванулся исполнять команду. Но пока рядовой собирал разбросанную обувь, сержанту, видимо, стало скучно, и он решил, видя страх молодых солдат, покидать и дальше тапки, как в тире, по живым мишеням. Игнатов нагнулся за новым снарядом для метания, размахнулся и запустил тапок в другого сидящего солдата. Первый раз промазал. Запустил второй тапок и попал в плечо парню. Так же, как и первому солдату, Игнатов скомандовал собирать разбросанные тапки, и боец быстро бросился исполнять задание.
Такая забава понравилась пьяному сержанту, и он решил подбить тапками оставшихся двоих солдат. В этот раз Игнатов бросил сланцем в меня, и с первого раза его бросок оказался точным. Я видел, что тапок летит мне в шею и увернулся от снаряда.
«Сидеть смирно, козел! Я что сказал!» – проорал сержант и через мгновение метнул второй тапок с еще большой силой. И опять тапок точно летел мне в область груди. Я вновь увернулся. Сержант взбеленился: «“Дух”, ты что уворачиваешься? Ты что, чмо, совсем опупел?».
С трехэтажным матом он пошел ко мне быстрым шагом. Я вскочил со стула и решил не терпеть дальше унижения, встал в боксерскую стойку, выставил левую ногу чуть вперед, согнул руки, сжал кулаки и держал их на уровне подбородка, готовый ответить ударом на удар. Сам первым я не нападал, так как мне не нужна была победа в этом поединке, грозящая, может быть, избиением от всех сержантов, в том числе ночью втемную, когда тебе накидывают на голову одеяло и ты так и не узнаешь, кто тебя бил ногами по лицу и почкам. Однако природная гордость не позволила терпеть кидание в меня грязной обувью. Для меня это было унижением, поэтому я решился на конфликт с дембелем. Игнатов подошел на расстояние двух шагов и казался мне в тот момент очень здоровым парнем. Несмотря на то что он был ростом на пару сантиметров меньше меня, но зато более широк в плечах, упитан и накачан по сравнению со мной. Его вес примерно был 85–87 килограммов, я же, уходя в армию, активно занимался бегом на средние дистанции и был худ и строен с весом в 69 килограммов, а за первые три недели армейских условий с недоеданием и психологическими переживаниями похудел до 63 килограммов. Кожа да кости, а не солдат. Ветром сдувало. Кроме того, сержанту было по минимуму тогда 20 лет, а мне, как я уже писал, только семнадцать. А в возрасте до 25 лет, пока организм развивается, разница даже в один год очень внешне заметна и существенна. В школе семиклассника легко отличить от восьмиклассника, а тем более от десятиклассника. Сержант подошел на близкое расстояние и пытался нанести удар ногой. Я отступил на полшага назад, и пролетевшая нога противника меня не коснулась. В следующее мгновение уже я сделал выпад вперед и хотел ударить прямой правой рукой в голову сержанта. Но Игнатов отклонился в сторону от удара, сделал шаг назад, выпрямился и не решался больше подходить ко мне. Я почувствовал, что он трухнул и засомневался в своем успехе. Физическая сила была явно на его стороне, но то ли из-за того, что он давно уже не получал сопротивления от молодых солдат, то ли из-за того, что ему совершенно не нужны были какие-нибудь проблемы перед скорым дембелем, но сержант не стал продолжать агрессивных движений. Однако терять лицо ему тоже не хотелось, и он начал кричать на меня.
– Э, ты откуда такой борзый? – спросил он.
– Я из Алма-Аты, – ответил я зло.
– Ты почему приказы старших не выполняешь? На губу или в дисбат захотел?
– Я не считаю себя мишенью для грязных тапок. Такого пункта нет в Уставе.
К этому моменту рядом с Игнатьевым уже стояли четыре сержанта, которые вышли на громкий мат своего сотоварища, когда он ринулся ко мне. Среди них был Сагайдак Егор.
Он выступил чуть впереди сержантов и сказал мне достаточно спокойно:
– Хорошо, Ландыш, давай действовать только по Уставу. Подтяни, во-первых, свой ремень, у тебя он болтается. Так не положено по Уставу.
Я подтянул ремень, заправил гимнастерку, несколько вылезшую во время активных движений.
– Так, теперь внешний вид в порядке, – продолжал Сагайдак, – А сейчас будем тренировать всем отделением отбой-подъем за 45 секунд, которые положены по Уставу. Ваше отделение не справилось сегодня утром с этим нормативом, вот сейчас из-за твоих действий мы всех снова и потренируем.
«Отделение! Становись!» – крикнул Сагайдак, и через несколько мгновений все 10 человек нашего отделения уже стояли посередине казармы.
«Смирно! Отделение! Отбой!» – прозвучала команда сержанта, и все бросились быстро к своим табуреткам, чтобы раздеться до трусов и маек, аккуратно разложить на табуретке свою форму и залезть под одеяло. На все действие после команды сержанта отводилось 45 секунд. Я уже научился успевать за это время выполнить данное задание, но в отделении было много недавно прибывших туркмен, которые еще медленно раздевались и одевались. А итоги подводили по всему отделению. Поэтому из-за туркмен в тот раз нас гоняли минут 30 по команде «отбой» и «подъем» до самого ужина. А потом еще и перед отбоем. Но это меня уже не особенно тяготило, так как инцидент с тапочками разрядился для меня удачно. Я показал почти при всех сержантах, что готов на отпор любому, если он вздумает меня унижать.
Ночами наше отделение перестали будить, несмотря на то что из-за новоприбывших двух туркмен у нас всегда днем были замечания. Бедные азиаты были не городскими жителями, а из горных аулов, русского языка совершенно не знали, и первое время из-за них отделение что-нибудь не успевало или делало не так. Туркмены даже не понимали юмор, когда им со смехом переводили некоторые слова прапорщика или сержантов. Например, такие выражения из армейского фольклора, как: «Начинаем, когда услышите три зеленых свистка», «От меня до следующего пня, бегом марш», «Сегодня копаем от забора и до ужина» или «Куст – это несколько растений, произрастающих из одного места».
Однако в экстремальной ситуации туркмены быстро учились, так как получали пинки от сержантов. Первые русские слова один туркмен произнес уже на второй день в столовой. Это ребенок первое слово в своей жизни произносит «Мама», а туркмен в армии сказал с акцентом: «Дай масло». Жрать захочешь, быстро научишься говорить на любом языке. А первый русский мат туркмен произнес через три дня пребывания в учебке. Как-то наше отделение долго тренировали поздно вечером по команде «отбой-подъем». Наверное, час целый мучили. Потом наконец сержанты сказали: «Все, конец. Можно сходить в туалет и спать». Тогда один маленький туркмен, где-то всего полтора метра ростом, в больших синих трусах и серой майке, сел на кровати и, тоскливо смотря в окно, сгорбившись от усталости, глубоко вздохнул и тихо произнес не для кого-то, а самому себе, можно сказать, у него вырвался вздох души: «Ой, бля-я-я-ять».
Наверное, в туркменском языке нет слов, которыми можно передать вздох отчаявшейся души и для таких случаев подходит только мат из великого и могучего русского языка. Когда я услышал этого туркмена, то в первый раз за 20 дней пребывания в этом аду улыбнулся. А потом подумал, что кому-то здесь еще хуже, чем мне. Мне стало этого новобранца жалко. Тем более что туркмены и таджики, которых недавно к нам тогда забросили, хоть и были в основном малообразованные, но в целом были людьми хорошими, добродушными, открытыми и всем в отделении они были симпатичны.
Через неделю сержанты поняли, что научить азиатов говорить за полгода еще возможно, но обучить умению квалифицированно оказывать первую медицинскую помощь, ставить диагноз за это время просто маловероятно. Видимо, это поняли и офицеры и дали приказ – подготовить списки на выписку из учебки и направить всех плохо обучающихся солдат в войска.
Никто из молодых не знал, что скрывается под словом «войска», но сержанты в воспитательных целях нас постоянно пугали: «Боец, если будешь себя плохо вести, отправим в войска на лесоповал к азербонам, они тебя там в задницу будут каждый день иметь. Так что лучше будь дисциплинированным здесь, в учебке, глядишь, повезет, медбратом в санчасть определят, и там ты спокойно дослужишь свое. Будешь ночью в самоволки ходить, а днем в палате спать».
Как-то утром после завтрака построили всю роту в казарме и объявили, что часть роты сегодня направится в войска, так как у нас здесь перебор курсантов.
«Кого буду называть, делает шаг вперед», – сказал Сагайдак и начал зачитывать фамилии.
Все туркмены и таджики, человек 15, сделали шаг вперед. И в самом конце Сагайдак с нескрываемым удовольствием, глядя зло мне в глаза, произнес мою фамилию. Я сильно расстроился. Так не хотелось уезжать. Ведь уже начал обзаводиться здесь друзьями, почти адаптировался к таким трудным условиям, стал получать еженедельно письма из дома, а впереди ждала неизвестность, страшная, по описаниям сержантов. Но делать нечего, не умолять же этих уродов вычеркнуть меня из списка. Что будет, то и будет, такова судьба.
Всех солдат нашей роты, кроме тех, кто должен был ехать в войска, увели на плац для строевой подготовки, а к нам подошел сержант-«черпак» Косолапов, заведующий складом, и начал поочередно спрашивать размеры одежды. Потом сказал с сочувствием нам: «Всех вас там сломают». Но через несколько секунд добавил: «Может быть, только Ландышева не смогут».
«Ну, вот и первая похвала от командования», – кисло и тоскливо подумал я.
Отправки мы ждали целый день. В поезд сели только в два часа ночи. Всего было четыре полностью забитых плацкартных вагона с молодыми солдатами. Матрасов и белья не выдали. В нашем вагоне не было ни одного славянина. Купе с туркменами, купе с таджиками, купе с дагестанцами, с азербайджанцами и другими кавказцами. Все черноволосые, везде непонятная речь. Свет в вагоне выключили, и через некоторое время поезд тронулся. Я лежал на верхней полке, смотрел в окно и долго не мог уснуть, хотя обычно в это время в учебке засыпал мгновенно, как только оказывался в горизонтальном положении. Тогда я еще не верил в Бога, но помню, спросил у кого-то, скорее всего, у своей Судьбы: «Что же меня ожидает? За что такие мучения? Ведь не прошло еще и месяца, но уже так невыносимо тяжело, а впереди еще почти два года этого ада, этого бреда, этого рабства. Дай мне силы выдержать все это и вернуться домой уравновешенным и невредимым».
Я смотрел через окно на редкие поселки, на покосившиеся, почерневшие, деревянные срубы домов бедного, забытого цивилизацией, малонаселенного края, на темную, неизвестную тайгу. Тук-тук… тук-тук… тук… тук. Стучали колеса. Поезд шел на юг, в небольшой город Бикин, который стоит почти посередине между Хабаровском и Владивостоком в ущелье между сопками, в 18 километрах от границы с Китаем.
* * *Здравствуйте, «войска»! Рано утром поезд остановился на станции Бикин, и около двухсот солдат из хабаровского эшелона отправили в большой актовый зал, находившийся в танковом полку на окраине города. В актовом зале солдаты расположились в креслах, как в кинотеатре, и ждали, пока их вызовут, чтобы передать какому-нибудь офицеру для дальнейшего сопровождения в роту постоянной дислокации. Я сидел сонный, утомленный дорогой и незнанием того, что будет в дальнейшем. Через некоторое время ко мне подошел офицер в звании полковника. Это было очень высокое звание для обычных войск, ибо в крупных городах высоких званий много, потому что много офицеров работают в штабах или учатся в военных академиях. А в действующих войсках, тем более на границе, старший лейтенант уже командовал ротой, а майор мог командовать полком. Полковник же в войсках был почти что богом. И вот один из этих богов подошел ко мне. Я встал, как было положено по Уставу. Полковник спросил: