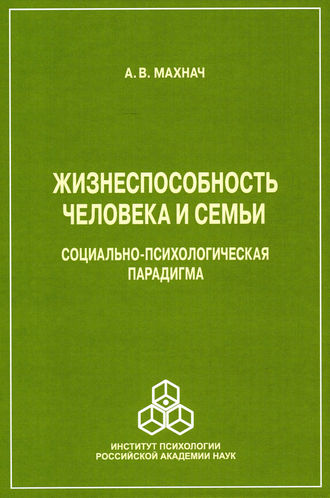
Полная версия
Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма
Отдельно хочется остановиться на исследованиях, в которых анализируется взаимовлияние нравственности и жизнеспособности социума. Основой морали служит социальная природа человека, что проявляется в постоянном соотнесении интересов человека, общества, норм и требований, общественного и личного в человеке. Последнее десятилетие ХХ в. ознаменовалось тем, что из нашего лексикона постепенно исчезло то, без чего не бывает ни общества, ни государства, а именно: морали и духовных ориентиров. Это отрицательно повлияло на общественную нравственность, на отношение человека к человеку. Россия оказалась таким государством, которое на всех уровнях сообщило своим гражданам: живите (выживайте) как хотите (можете), государство больше не определяет общественную нравственность и мораль. С этого момента власть и общество пошли в разных направлениях.
В частности, это коснулось и науки. Государство перестало «заказывать» ей, до этого всегда обслуживающей его потребности в изучении феноменологии, например, формирование моральных ценностей общества, разработку новой морали, новых этических представлений, современных состоянию общества, требовать изучения нравственности в обществе. Современные производственные коллективы, компании, профессиональные ассоциации не формируют у своих сотрудников моральных принципов по причине их отсутствия. Поэтому возникает необходимость соотнесения внутренних уставов и корпоративных стандартов, декларируемых или негласно существующих правил, жизнедеятельности коллектива в целом с общественной моралью. И поэтому в организациях, в которых понимают значение морали и нравственности для коллектива, принимают корпоративные стандарты, регулирующие взаимоотношения в этой сфере. Неслучайно в ряде исследований, прежде всего, в общественных науках обращается внимание на тот факт, что безопасность общества, развитие его духовного начала напрямую связаны с его жизнеспособностью.
Жизнеспособность как основа политической системы, государства часто является предметом исследования еще и потому, что ее взаимосвязь с духовностью лежит в основе политологических, культурологических прогнозов их развития. Связывание жизнеспособности с духовностью общества в таком ракурсе может объяснить многое и дать импульс научным исследованиям принципиальных характеристик развития общества. К ним относятся: взлеты и падения государственных систем, изменения в значимых для социума сферах (образование, здравоохранение, культура), успехи политики, мобилизация для своих целей энергии общества в связи с потрясениями в обществе (войны, революции, связанная с этим смена ценностей общества). Неслучайно в проекте концепции развития поликультурного образования в РФ среди принципов, определяющих современное поликультурное образование, сообщается, что «жизнеспособность сложных саморазвивающихся систем (образования. – А. М.) зависит от дифференцированности и богатства их элементов (принцип дифференциации и разнообразия). Чем сложнее внутренняя структура общества, чем разнороднее его этнический состав, чем более многомерна и асимметрична его культура, тем больше у него шансов выжить, тем более оно устойчиво и жизнеспособно. Именно многообразие, противоречивость и неоднородность современного мира делают его сбалансированным и единым» (Проект концепции…, 2010). Одна из основных функций концепции – воспитание подрастающего поколения, не учтенная реформой образования последних двух десятилетий, – вновь не нашла своего законного места. И, к сожалению, эта функция в системе образования не стала основной, что сказывается сейчас и скажется в будущем на жизнеспособности населения нашей страны. Среди декларируемых принципов образовательной политики мы обратили внимание на следующий, последний среди всех (sic!): «Формирование морально-этических стереотипов и воспитание трудовых навыков, необходимых для активной профессиональной деятельности» (курсив мой – А. М.). В этом принципе образовательной политики только постулируется «формирование морально-этических стереотипов», а воспитываются – трудовые навыки и активность ради профессиональной деятельности. К сожалению, в этой концепции нет акцента на формировании нравственности и морали в рамках поликультурного образования в нашей стране. Приходится констатировать, что такие принципы как: «высокое сознание общественного долга», «коллективизм и товарищеская взаимопомощь», «добросовестный труд на благо общества» в обсуждаемой концепции отсутствуют, но существовавшие в истории нашей страны в «Моральном кодексе строителя коммунизма».
Можно по-разному относиться к этому историческому документу, но интересно, что, по признанию одного из разработчиков этого кодекса – Ф. Бурлацкого, было решено «исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда все действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов» (Бурлацкий, 2007, с. 4). Было бы методологически верным считать, что потенциал выживания системы тем выше, чем разнообразнее и дифференцированнее ее реакции, соответствующие многообразию внешних воздействий. Отрадно, что в концепции развития поликультурного образования в РФ заявлено, что принцип поликультурности, лежащий в основе воспитания подрастающего поколения, – основа жизнеспособности в будущем системы образования и общества в целом. Однако этот принцип, заключающийся в систематическом приобщении подрастающего поколения к культурным и духовно-нравственным традициям, не основывается на базовых и традиционных духовных ценностях многонационального народа России. Стремление к новому, без опоры на традицию и часто негативное отношение к понятиям «консерватизм», «традиционализм» не может формировать жизнеспособное общество и его мораль. Развитие нашего общества за последние десятилетия показало значимость всех этих условий, а их неисполнение, к сожалению, повлекло за собой ряд событий, которые никак не могут указывать на жизнеспособность общества и государства в целом. Вместе с тем известно, что именно эти качества придают обществу устойчивость, жизнеспособность (Наумова, 2007). Как показывает исторический опыт, социум жизнеспособен тогда, когда может реализовать природный, материально-энергетический, духовный и организационный потенциалы в целях противодействия обществу вызовам и угрозам. Он проявляет жизнеспособность, когда способен управлять внутренними и внешними процессами в соответствии с функциональным предназначением – адекватно реагировать на развитие опасных глобальных, международно-региональных и внутренних противоречий (Вершилов, 2008).
В политологических исследованиях принято связывать прогнозы развития тех или иных политических событий с жизнеспособностью системы. В последние годы также в речах политиков стали встречаться слова: «жизнеспособность» и «устойчивость» общества. По мнению одного из них, политическая система в России стала более жизнеспособной, в большей степени отвечающей интересам граждан, с чем трудно согласиться, не имея перед собой достаточно четкой концепции в виде «морального кодекса строителя новой России». В связи с этим важны доказательства и факты, подтверждающие, что существующая политическая система отвечает интересам граждан, потому как она должна давать каждому из нас ощущение себя жизнеспособным членом этого общества. Жизнеспособным – по ряду основных факторов: стабильности семьи, социального окружения, самостоятельности и самоэффективности, культурной идентичности каждого члена общества, моральных и нравственных ориентиров общества.
Следует отметить, что роль духовно-психологического фактора в поддержании жизнеспособности режима часто недооценивается. Значение этого фактора понимал еще Конфуций, утверждавший, что «всякое правительство нуждается в хлебе, оружии и доверии людей. В крайних случаях оно может обойтись без первых двух, но никогда без последнего» (цит. по: Цыганков, 1995, с. 123). Умение режима мобилизовать в своих целях духовно-психологическую энергию – одна из важнейших основ его стабильности и жизнеспособности, срабатывающая иной раз даже в тех случаях, когда изрядно истощены его материальные ресурсы. Как правило, в таких случаях государство, его лидеры обращают особое внимание на церковь как хранителя духовных устоев общества (Цыганков, 1995). Не случайно после многих лет политики уничтожения веры и верующих И. Сталин в 1939 г. изменил отношение к церкви, что связывают с присоединением к СССР западных земель Украины и Белоруссии, отторгнутых у Советской России Польшей в ходе Советско-польской войны 1919–1921 годов. По его расчету, Русская православная церковь была единственной силой, которая могла бы связать православных этих территорий с православными всей страны. Начавшаяся война заставила убежденных марксистов обратиться к русским патриотическим традициям, последовательно искоренявшимся прежде. Теперь Сталин уже оперирует ранее не свойственными ему словами «братья и сестры», вспоминает русских полководцев, забыв о былом коммунистическом интернационализме (Бубнов, 2005). Другое наблюдение по времени и событиям также имеет отношение к социальным исследованиям жизнеспособности народа. Еще в 1978 г. известные исследователи стресса Л. Пёрлин и С. Скулер отмечали: «В случае появления выраженного межличностного стресса и наличия стрессогенности в отношениях, имеющих социальное, экономическое или производственное происхождение, наиболее эффективными средствами „помощи“ оказываются манипуляции целями и ценностями. Этот прием позволяет людям эмоционально дистанцироваться от проблемы и переносить стресс легче» (Pearlin, Schooler, 1978, р. 20). Такой простой прием применяется каждый раз, когда в коллективе, обществе вызревает конфликт отношений: для того чтобы его погасить, находится иная цель, начинают озвучиваться иные, чем прежде, ценности. С нашей точки зрения, манипуляции ценностями в общественных кампаниях вокруг сирот, лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и других групп социальной стигмы являются яркими примерами из жизни общества, находящегося в состоянии стресса уже не первый десяток лет. Людей, которых реально задевают эти манипуляции, – ничтожно мало, а манипуляции общественным мнением снимают остроту проблем, например, в области сиротства. Такие же аллюзии возникают в интерпретации исторических фактов при смене системы ценностей на определенных этапах развития любой нации и государства. В связи с этим не является простым совпадением тот факт, что культура, образование, идеология и национальная безопасность взаимодетерминируют друг друга.
Очевидно, что образование способно остановить процессы духовного и интеллектуального обнищания нации, сформировать нравственные качества личности и создать основу для всестороннего развития России (Михайлова, 2002). В современном индустриальном обществе, по мнению Г. Маркузе, вследствие распространения влияния «репрессивного разума» происходит «сворачивании измерений». Этим понятием характеризуется состояние социума, отражающее фундаментальный дефект его существования как общества без альтернативы. В результате складывается такая «одномерная» форма общественной жизни, в которой невозможна оппозиция. Процесс сворачивания измерений характеризует общество со стороны нарастания неустойчивости, нестабильности, сказывается на становлении неравновесной социодинамики. Логично, что «общество без альтернативы» имеет меньше шансов на продолжение своего существования по сравнению с «обществом с альтернативой». Сворачивание измерений – характерная черта советской, а также отечественной социальной практики сегодня. И. М. Предборская считает, что «мы не очень погрешим против истины, если сформулируем вывод в соответствии с настроениями размышлений Г. Маркузе: „Система является более жизнеспособной и плодотворной тогда, когда она имеет больше степеней свободы“, т. е. измерений бытия, которые реализованы и реализуются» (Предборская, 2003, с. 116). По Г. Маркузе: утрата жизнеспособности общества происходит неизменно в том случае, если начинают возникать явные противоречия между огромным общественным богатством и его нерациональным и разрушительным использованием, между потенциалом свободы и фактом ее подавления, между возможностью преодолеть отчужденный труд и капиталистической потребностью в его сохранении. Следствием этого является распад морали, обеспечивающей в обычных условиях ежедневное соблюдение и следование социально необходимым моделям поведения на работе и вне ее (Marcuse, 1969). Закономерным следствием падения морали в обществе являются постепенная трансформация его ценностей, изменение приоритетов развития социальных институтов и связанное с ним снижение внимания государства к потребностям каждого члена этого общества. Важным аспектом концепции гибнущего общества является выделение признаков и причин его умирания:
1) распространение девиаций, превышающих допустимую меру, которая приводит к потере жизнеспособности общества (признаки потери жизнеспособности);
2) согласие общества с девиантным типом поведения и распространение «нормальных девиаций»; снижение в обществе роли основополагающего социального института – семьи;
3) потеря обществом способности к развитию, естественному воспроизводству ресурсов;
4) потеря ощущения будущего, цели; развитие апатии, пессимизма; деактуализация духовного начала развития общества (Катаев, 2008).
Основные положения концепции гибнущего общества отчасти повторяются в исследовании А. А. Брудного, который обратил внимание на тот факт, что положительный знак четырех факторов, способствующих развитию жизнеспособности человечества, может смениться на противоположный. Первый фактор в его четырехфакторной структуре жизнеспособности человечества включает «способность проектировать и создавать орудия защиты и нападения… в способность создавать абсолютное оружие, оружие, угрожающее самому существованию человечества. Есть надежда, что оружие это не будет пущено в ход. Но это надежда» (Брудный, 2013, с. 100).
Именно в связи с такого рода угрозами во всех жизнеспособных культурах существуют моральные ценности и нравственные правила. Именно по этой причине любой жизнеспособный социум должен уметь согласовывать интересы и деятельность отдельных личностей и групп и приводить их в соответствие с общими интересами данного социума, равно как и осознавать эти общие интересы в более или менее рациональной форме (Ляхова, Галанина, 2005). По мнению А. Л. Журавлева и А. В. Юревича, национальная идея способна стать объединяющей и может служить источником оптимизма, жизнестойкости, жизнелюбия и, в конечном счете, жизнеспособности личности и витальности нации, оказывая также большое влияние на субъективное качество жизни, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью и высшее проявление этой удовлетворенности – счастье ее граждан (Журавлев, Юревич, 2014).
Таким образом, в социологических и экологических исследованиях доминирует понимание жизнеспособности как устойчивости: устойчивое развитие предприятия, города, государства или системы в целом. Особое внимание в исследованиях обращается на способность системы не только противостоять сильному воздействию, выдерживать удар, но и быстро восстанавливаться, адаптироваться к новым условиям, устойчиво функционировать и развивать стабильность. Жизнеспособность в социологических и экологических исследованиях связана с устойчивым функционированием локальных экономических или экосистем, от которых зависит стабильность всей экономической системы или биосферы в целом. В социологических и экологических исследованиях жизнеспособность человека (общества) определяется, прежде всего, через совладание и преодоление им трудностей и кризисов. В работах, посвященных анализу устойчивости развития общества, исследователи нацелены на поиск оснований его устойчивого развития во всех сферах общественной жизни. По этим темам возможны пересечения исследований в социологии, экологии и психологии.
1.5. Понятие «жизнеспособность» в педагогических науках как основа развития и адаптации ребенка в сложных жизненных условиях
В педагогике продолжаются исследования жизнеспособности детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях жизни в силу обстоятельств семьи. З. Войтинас описывает детей, которые, несмотря на то, что живут в экстремально трудных условиях, как, например, в полностью деградировавших семьях, остаются «неповрежденными». Их также называют «несокрушимыми детьми». Автор для определения этого свойства у детей использует термин «resilient» – жизнеспособные (Войтинас, 2003). Дж. Вэйлант дал образное и при этом точное описание жизнеспособных детей, напоминающих «свежие веточки на живом основном корне. Когда их сгибают, такие ветки изгибаются, но не ломаются, и вместо этого они выпрямляются обратно и продолжают расти» (Vaillant, 2002, p. 285). В педагогике этот феномен жизнеспособности человека («гнется, но не ломается») встречается в исследованиях отечественных и зарубежных ученых (Ваништендаль, 1998; Войтинас, 2003; Зеньковский, 1996; Ary et al., 1999; Bleuer, 1978; Cicchetti et al., 1993; Garmezy, 1976; Luthar, 1995; Masten et al., 1988; и др.). Еще в начале ХХ в. русский педагог П. Ф. Каптерев обратил внимание на понятие «жизнеспособность», связав устрашение или действия страхом в процессе воспитания ученика с понижением общей жизнеспособности и его энергии подрывом всех сил. Страх, по его мнению, «парализует движение произвольных и непроизвольных мышц, задерживает кровообращение, путает ум, ослабляет память…» (Каптерев, 1914, с. 235). Описывая типичную процедуру воспитания, он рассуждает о формировании жизнеспособности ребенка: «Иногда шалуна наказывают – наказывают за его шалости и все никак не могут подавить шаловливости, шалун продолжает шалить. Приходится все усиливать и усиливать наказание, т. е. все больше и больше понижать общую жизненную деятельность шалуна, пока, наконец, общее понижение органической энергии отразится и специальным понижением шаловливости. Это называлось в прежнее время „сломить“ шаловливого школьника, „вышколить“ его, справиться с ним строгими дисциплинарными мерами. Также поступают и с взрослыми: какого-нибудь вора, бродягу, разбойника бьют и держат в гнуснейшей тюрьме до тех пор, пока он… сделается негодным ни к какой деятельности, за крайним подавлением и истощением энергии и жизнеспособности. Отсюда вера в воспитание страхом… Что может быть вздорнее и нелепее такой веры! Страх парализует энергию человека, телесную и духовную, понижает его жизнеспособность» (там же, с. 236).
Н. Гармези выделил три фактора, которые защищают детей от воздействия неблагоприятной стрессогенной окружающей среды, так называемого «социально токсичного окружения» по Дж. Гарбарино (Garbarino, 1995):
1) «легкий» темперамент, проявляющийся в гибкости и адаптивности личности; это свойство позволит ребенку в сложной ситуации или даже целом отрезке его жизни искать и находить иной способ реагирования;
2) наличие хотя бы одного взрослого, «значимого другого», проявляющего заинтересованность в ребенке;
3) наличие сети социальной поддержки, в которую могут входить соседи, знакомые, одноклассники, учителя, друзья, священник, позволяющие более адаптивно относиться к неблагоприятному воздействию окружающей среды (Garmezy, 1985).
Одним из первых в современной отечественной педагогике на необходимость постановки вопроса о воспитании жизнеспособности молодого поколения обратил внимание И. М. Ильинский. Он связал жизнеспособность молодых людей с обстоятельствами их жизни: находящихся в необычайно жестких условиях природной и социальной среды, которая характеризуется крайней идеологической, социально-политической и экономической нестабильностью и неопределенностью. По И. М. Ильинскому, жизнеспособность – это способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в «жестких» и ухудшающихся условиях социальной и природной среды, развиться и духовно возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство, не менее жизнеспособное в биологическом и социальном планах. Задача жизнеспособной личности – стать индивидуальностью,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
К концу ХХ в. когда «Тектология» А. А. Богданова стала объектом детального изучения, выяснилось, что некоторые теории (например, катастроф, функциональных систем, самоорганизующихся систем и др.) по многим научным основаниям являются тектологическими.
2
Позже, с 1980-х годов, философы, экологи, экономисты стали говорить о динамической устойчивости системы как основной характеристике ее жизнеспособности (Боссель, 2001; Гизатуллин, Троицкий, 1998; и др.).

