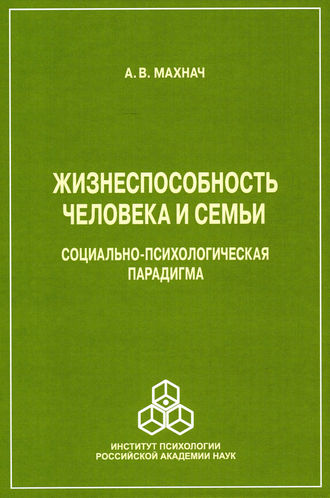
Полная версия
Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма
В такой области, как управление экономикой, исследования жизнеспособности проводятся австрийским и швейцарским экономистом Ф. Маликом (Fredmund Malik), где еще в Школе менеджмента Университета Санкт-Галлена (Швейцария) в 1970-е годы Х. Ульрихом была разработана системная модель менеджмента. В известной работе Ф. Малика приведено несколько определений составляющих жизнеспособность предприятия: это не просто выживание, а процветание предприятия, сохранение его жизненной силы и конкурентоспособности. В его понимании законы кибернетики, применяемые в любой организации общества, включая политическую сферу, помогают достигнуть «нового мира функционирования», что принесет пользу всему обществу (Малик, 2008).
В последнее время стали появляться исследования жизнеспособности предприятий, в которых описываются ее общие признаки, способы оценки (Домрачев, 2005). В другой работе на примере деятельности банка были проанализированы и выделены индикаторы его жизнеспособности. Было предложено ввести в деловой и научный оборот термины, образованные от слова «витальность», которые, являясь своеобразными индикаторами, способны описать жизнеспособность банка. Рост устойчивости, стабильности или надежности банка, как правило, воспринимается нами в ассоциативной связи с проявлениями его жизнеспособности, жизненной энергии или силы (Гойденко, 2006). Жизнеспособность организации также рассматривается в современных условиях рисков различного генеза, в том числе – террористических угроз. Повышение общей устойчивости инфраструктуры как ответа на вызовы постиндустриального общества базируется не на статичной «защите» отдельных, наиболее «критических» объектов и инфраструктур от ограниченного спектра известных угроз. Меры этого типа, по мнению Е. А. Степановой, будут адекватными только в контексте общего повышения устойчивости (resilience) системы инфраструктуры к внешним и внутренним угрозам и рискам, в том числе новым, неожиданным и плохо поддающимся прогнозированию. В данном случае «устойчивость» подразумевает способность системы не только выдерживать масштабный удар, но и быстро восстанавливаться, в том числе в видоизмененном виде, адаптированном к новым условиям (Степанова, 2010). Концепция жизнеспособного предприятия (Шеффи, 2006) также связана с общим подходом к устойчивому развитию. Концепция устойчивого развития реализуется в том, что «предприятия будут создавать жизнеспособное общество посредством деловой активности, в полной мере отражающей экономические, экологические и социальные аспекты» (Содействие…, 2007, с. 7). В исследовании муниципального образования «жизнеспособность»
означает способность хозяйствующих субъектов территории обеспечивать их устойчивое функционирование и развитие. Основой жизнеспособности муниципального образования является потенциал его развития как совокупность социальных, экономических и организационно-управленческих ресурсов (Савенков, 2002). Особенно важно, что жизнеспособность социальной системы во многом определяется результативностью ее системы управления, способностью последней рефлексировать, адаптироваться, создавать условия и модели, адекватные современным тенденциям и закономерностям (Костко, 2004).
Таким образом, в экономических науках содержание термина «жизнеспособность» используется с опорой на кибернетику. В экономических исследованиях, как и в кибернетике, изучаются большие системы в масштабах государства, макроэкономики, их устойчивого развития, но их специфика состоит в том, что они ориентированы на уровень предприятия и сотрудников, работающих на них. Как и в других отраслях науки, в отечественных экономических исследованиях два понятия – «жизнестойкость» и «жизнеспособность» – подменяются друг другом и используются не всегда корректно. В экономических науках социальный, экологический и экономический аспекты сопрягаются на социальной ориентированности концепции жизнеспособности социально-экономических систем. Наиболее перспективным в экономических исследованиях представляется изучение принципов и механизмов управления экономическими системами, особенностей моделирования эффективных организационных структур, способных к поддержанию гомеостаза, т. е. жизнеспособности в условиях нестабильности экономической среды. В двух основных тенденциях экономических исследований – изучение функционирования в существующих социально-экономических условиях и изучение развития, приводящего к изменениям окружающего мира, – проявляется устойчивое социально-экономическое развитие и жизнеспособность экономической системы. Говоря о взаимовлиянии экономической науки и исследований жизнеспособности как психологического понятия, прежде всего, следует обратить внимание на бурно развивающуюся организационную психологию и психологию управления. Очевидно, в рамках этих психологических дисциплин такие темы как: разработка системы качества менеджмента, отладка бизнес- процессов, повышение квалификации персонала, лояльность друг к другу участников производственного процесса на предприятии, миссия организации, ее философия и социальная ответственность, как и многие другие темы, связаны непосредственно с жизнеспособностью организации в целом и жизнеспособностью каждого из ее членов.
В далеко неполном обзоре по исследованиям жизнеспособности в экономических науках отметим, что акцент в них делается на поиске индикаторов жизнеспособности, признаков роста и устойчивости, стабильности и надежности организации или экономической системы в целом. Очевидная соотносимость понятия «жизнеспособность» в экономических и психологических науках дает надежду на интеграцию и междисциплинарность изучения жизнеспособности человека и семьи в социально-экономическом аспекте в ближайшем будущем.
1.4. Понятие «жизнеспособность» в социологии, экологии и других социальных науках
Термин «жизнеспособность» имеет прямую связь с кибернетикой и теорией устойчивого развития, используется в ряде социологических, экологических и демографических исследованиях, а также появляется в работах, посвященных анализу причин устойчивости развития и качества жизни человека и общества.
Практически все исследования жизнеспособности человека в социальных науках, а также в смежных областях, могут быть сгруппированы вокруг трех основных понятий. Эти понятия коррелируют с выделенными С. Пономаровым и М. Холком следующими характеристиками человека, соотносимыми с его жизнеспособностью:
1) готовность человека;
2) реагирование и адаптация;
3) восстановление или приспособление (Ponomarov, Holcomb, 2009).
Некоторые российские исследования последних лет в социологии и демографии были направлены на изучение жизнеспособности социальной среды, города (Общественное здоровье…, 2005) или нации в целом (Кара-Мурза, 2010; Дагбаева, 2011; Михайлова, 2002). В большинстве этих исследований, прежде всего, обращено внимание на социальное здоровье человека, которое рассматривается через призму его жизнеспособности. Поэтому в проблеме здоровья человека «жизнеспособность» – чаще всего показатель, интегрально отражающий состояние человека и изменяющийся как во времени, так и под влиянием различных факторов (внутренних и внешних, позитивных и негативных) и рассматривается как критерий здоровья. Здоровье, как система, должно характеризоваться структурой, состоящей из системообразующего фактора (или ядра) и элементов (в нашем случае показателей здоровья). Сущностью (ядром) данной системы является определенный уровень жизнеспособности, который, как в любом живом организме, зависит от степени постоянства, консервативности, стабильности его внутренней среды (Щедрина, 2007).
В социологической литературе исследуют категорию «качество жизни» и в связи с этим обращают внимание на жизнеспособность человека, общества или нации в целом: «Качество жизни является интегральной качественной характеристикой жизни людей, раскрывающей не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества как целостной саморазвивающейся системы. Повышение качества жизни населения, его социальное самочувствие во многом зависит от подтверждаемой реальной жизнью уверенности в том, что в результате собственных усилий настоящее и ближайшее будущее будет лучше, чем недавнее прошлое» (Дагбаева, 2011, с. 124). Автор делает акцент на том, что это является главным условием для повышения качества жизни населения России. Исследуя зависимость устойчивости социальной системы от ее жизнеспособности, С. Д-Н. Дагбаева считает, что «деятельность социальной системы должна быть подчинена повышению ее устойчивости, критериями которой являются: увеличение жизнеспособности населения, умение адекватно реагировать на происходящие изменения», т. е. автор ставит устойчивость социальной системы в зависимость от такой характеристики, как жизнеспособность населения. По ее мнению, «жизнеспособность является одной из наиболее важных характеристик устойчивости социальной системы, ее социального самочувствия и благополучия» (там же).
Обобщая номологические утверждения, касающиеся других дисциплин, но демонстрирующие общие законы жизнеспособности, рассмотрим принципы и законы, описанные Н. Ф. Реймерсом, специалистом по биологической социальной экологии. Позволим себе при этом выбрать только то, что, на наш взгляд, согласуется с психологическими представлениями о жизнеспособности системы (Махнач, Лактионова, 2007).
1. Поскольку число элементов и свойств системы, обеспечивающих рост жизнеспособности, ограничено, приходится прибегать к повышению индивидуальной жизнеспособности, устойчивости и надежности элементов.
2. В рамках системы нежизнеспособные, неустойчивые или индивидуально ненадежные элементы могут образовать жизнеспособное, устойчивое и надежное целое. Прикрытие элемента, нежизнеспособного по отношению к воздействию, жизнеспособным позволяет «погасить» воздействие на последнего и не допустить его к нежизнеспособному состоянию по отношению к данному воздействию. При воздействии противоположного типа элементы меняются ролями. Таким образом, жизнеспособная система может состоять из различных по жизнеспособности элементов.
3. Жизнеспособность, устойчивость и надежность систем имеют пространственные и временные границы («локусы» существования). В исследованиях организационного стресса особое внимание уделяется проблеме соответствия ресурсов имеющимся задачам. Теория соответствия утверждает, что не существует хороших или плохих ресурсов, важно – соответствуют ли они требованиям текущей задачи.
4. Локус существования системы обеспечивает ее жизнеспособность тогда, когда он «разрешает» ей движения и изменения по всем возможным направлениям. При этом может изменяться количество, качество, состав элементов, действий, связей, их структурирование, агрегирование, кооперация, адаптация к среде. Из сказанного следует также, что утрата возможности изменений для системы в целом ведет к ее стагнации и катастрофе.
5. Отношения среды с системой подразделятся на три группы: благоприятные, неблагоприятные и индифферентные. Система может повысить жизнеспособность и устойчивость следующим образом:
а) сокращая свой объем и внешнюю границу в локусе существования в пределах характерности;
б) за счет переструктурирования, агрегирования элементов и кооперирования их в подсистемы, блоки и т. п., не выходя за рамки своей «характерной структуры» или организации;
в) минимизируя опасность границы путем агрегирования данной системы с другими системами из актуальной среды («эффект союза») (Реймерс, 1994, с. 45–49).
Говоря в целом о социальной системе, Н. А. Костко отмечает: «Ее жизнеспособность определяется не столько принципами экономического детерминизма, сколько ростом целевой и прикладной значимости социальности во всех сферах и процессах» (Костко, 2004, с. 3). Для устойчивого развития общества он предлагает формировать «установку на необходимость создания условий и норм, формирующих потребности нравственно-личностного участия граждан в процессе управления развитием общества как мотивированного базового основания его жизнеспособности» (там же, c. 21). Согласимся, что «жизнеспособность любой социальной структуры определяется тем, насколько она способна утилизировать то иррациональное, что в ней существует, придавая ему не разрушительный, а созидательный потенциал» (Аллахвердян и др., 1998, с. 227). Неслучайно в политических науках к значимым качественным характеристикам общества наряду с другими относят и жизнеспособность этого общества.
В анализе сложного общественного явления – политического развития – высказывается мнение, что необходимо анализировать в качестве наиболее крупных качественных характеристик «политическое пространство, способы изменений, жизнеспособность системы, устойчивость к неблагоприятным внешним и внутренним возмущениям» (Недельский, 2000, с. 17). В другом исследовании содержание жизнеспособности и устойчивости политической системы (эти понятия используются как синонимы) уточняется с помощью ценностной и духовной составляющих. В ряде исследований в политологии принято связывать прогнозы развития тех или иных политических событий с жизнеспособностью системы. Ресурсы жизнеспособности режима могут подразделяться по различным основаниям. Г. Биннендайк, например, сформулировал комплексную типологию факторов (которые могут быть рассмотрены и в качестве ресурсов), оказывающих непосредственное влияние на политический режим и потенциально способствующих его изменению. Он выделил «семь таких факторов: 1) физический и духовный потенциал лидера; 2) военное состояние и боеспособность режима; 3) положение дел в экономике; 4) социальная напряженность в обществе, в котором отделяется персона носителя власти от народа; 5) прочие социальные факторы, способствующие параличу власти (масштабы коррупции в структурах власти, убийства или изоляция ключевых фигур политической оппозиции); 6) наличие политической коалиции на антиправительственной основе; 7) настроения в армии» (Binnendijk, 1987, р. 217–219). Вместе с тем, по мнению А. П. Цыганкова, большинство представителей одного из самых влиятельных направлений этой науки – советологии – не сумело адекватно предсказать жизнеспособность советской системы (Цыганков, 1995). Среди ресурсов жизнеспособности политической системы Г. Биннендайк на первое место ставит фактор физического здоровья и духовный потенциал лидера как «наиболее важный признак упадка или жизнеспособности системы. Он может привести как к развитию системы, являясь фактором жизнеспособности, так и способствовать ее падению» (Authoritarian Regimes, 1987, р. 219). Этому исследованию уже более двадцати лет, в котором одной из изучаемых автором стран был СССР, но выводы, сделанные этим известным ученым, актуальны как никогда и сейчас для ряда стран, в том числе и для России. Многим раньше на детерминированность политического развития государственности, власти и жизнеспособности обратил внимание русский религиозный мыслитель В. С. Соловьев. Среди факторов жизнеспособности общества и государства на историческом примере древнерусского государства он выделяет единовластие, сопоставляя его с Новгородским вече, назвав его разновидностью междоусобной войны. «Недостаток прочной организации, отсутствие единовластия делало киевскую Русь беззащитной против окружающих диких орд, отнимало у нея историческую жизнеспособность» (Соловьев, 1895, с. 154).
Подобные признаки жизнеспособной политической системы перечисляют В. В. Буханцов и М. В. Комарова. Система может называться жизнеспособной при наличии развитой духовной культуры с духовной легитимизацией; осознанной обществом парадигмой развития; историческим оптимизмом; способностью выбирать в точках бифуркации новые каналы эволюции; высоким уровнем науки, культуры, медицины и других жизненно важных сфер цивилизованного общества; признанием роли идеологии как многоуровневой интегративной силы, формирующей политическое мировоззрение (систему ценностей); развитой системой образования; наличием продуманной программы воспитания граждан (Буханцов, Комарова, 2011). Определение жизнеспособности как качества системы наиболее точно отражает переменные, составляющие структуру жизнеспособности.
По-видимому, в социальных и политических науках в настоящее время происходит не только определение понятийного поля термина «жизнеспособность», но и уточнение переменных, входящих в содержание нового для этих наук термина. В большинстве социальных и политических исследований происходит его операционализация, что, как известно, представляет собой особую процедуру установления связей обсуждаемого понятия с методическим инструментарием, позволяющим уточнять его содержание.
В социальных науках жизнеспособность – это, помимо прочего, способность группы или организации противостоять потерям, ущербу или восстанавливаться от воздействий непредвиденных неблагоприятных событий или бедствия. Уязвимость – это мера восприимчивости группы или организации к испытанию потерей или бедствием (Buckle et al., 2001). Чем выше уровень жизнеспособности, тем меньше разрушений может испытывать организация или общество и быстрее и/или эффективнее будет проходить восстановление. Соответственно, чем выше уровень уязвимости, тем более видимым будет воздействие разрушений для общества. Ф. Бакл с соавт. считают, что «жизнеспособность и уязвимость должны быть привязаны к месту происходящих событий или ситуации, но на эти обе характеристики влияют такие факторы контекста, как экономические, политические условия, окружающая среда и инфраструктура общества» (ibid., p. 9). Жизнеспособность и уязвимость взаимодействуют друг с другом на социальном уровне, в пространстве и во времени. Для получения четкой картины жизнеспособности или уязвимости необходимо понимать контекст, в котором человек или общество живет, исследовать особые обстоятельства жизни человека или общества. Жизнеспособность и уязвимость создаются благодаря комплексу взаимодействий многих факторов. «Среди факторов, поддерживающих жизнеспособность (их отсутствие является условием появления уязвимости), выделяются следующие: доступ к ресурсам и финансовая безопасность; умения и навыки (например, навык решения проблем, принятие решений и др.). Жизнеспособность и уязвимость человека могут быть «изучены на нескольких уровнях (направлениях), включающих: индивида, семью, группу (например, спортивный клуб, команда), улицу, соседей, демографические группы (по полу, возрасту), этнические группы, муниципалитет, регион, область, государство. На системном уровне (экономическом, политическом, ценностей и норм) жизнеспособность изучают через характеристики инфраструктуры и окружающей среды, а также через доступные населению услуги» (ibid, p. 10).
Жизнеспособность и уязвимость не всегда являются противоположными полюсами для индивида, группы или общества в целом.
Человек (общество) может быть уязвимым вследствие воздействия неблагоприятных событий, но является жизнеспособным для выполнения тех или иных работ, обладая некоторыми важными для ситуации навыками. Он может быть частью системы отношений, способной оказать необходимую эмоциональную поддержку и тем самым увеличить свою жизнеспособность или общества в целом. В этом случае жизнеспособность как системная характеристика является независимой переменной от уязвимости.
В экологическом исследовании устойчивого развития систем Х. Босселем среди ряда признаков, характеризующих устойчивое развитие любой из систем, основным называется жизнеспособность. Он считает, что она подразумевает устойчивость (Боссель, 2001). «С экологической точки зрения в устойчивом развитии особое значение имеет жизнеспособность локальных экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы в целом» (Гизатуллин, Троицкий, 1998, с. 129). В таком случае возникает необходимость обращения к понятиям природных систем обитания человека, пониманию им экологии среды, в которой он обитает, его жизнеспособности в этой среде. В. Н. Большаков и его коллеги, оценивая возможность резких переходов экологических систем разного ранга из одного более или менее стационарного состояния в другое, говорят о концепции жизнеспособности (resilience), переводя этот термин как упругая устойчивость (Большаков и др., 1996).
Понятие «жизнеспособность» в исследованиях социума в самых разнообразных его характеристиках также начинает занимать достойное место. Например, существует современная глобальная тенденция связывать жизнеспособность и различные аспекты национальной безопасности как основные критерии развития общества. Во многих исследованиях национальная безопасность страны анализируется с позиции жизнеспособности и рассматривается как совокупность условий для обеспечения суверенитета страны, защиты ее интересов и интересов граждан, как уверенность в будущем, в развитии гражданского общества, благосостояния государства и граждан. В этих исследованиях предложена трактовка жизнеспособности общества как степени реализации потребностей населения в безопасности, образовании, здоровье, самореализации, демографическом и социальном воспроизводстве (Михайлова, 2002; Ястребов, Красилова, 2012).
Рассуждая о базовых ценностях, в своей совокупности являющихся основой духовности как компонента жизнеспособности, обратим внимание на то, что они, были сформированы во времена СССР, и, как бы к такой взаимосвязи ни относились, являются базовыми ценностями современного российского общества. О неслучайной взаимосвязи постулатов нравственных законов периода развитого социализма и библейских заповедей было рассказано Ф. Бурлацким (2007). В данном контексте эта взаимосвязь проявилась в высокой гомогенности базовых ценностей, которая служит духовным основанием целостности российского общества (Лапин, 2003). Противоположной точки зрения придерживается И. М. Ильинский, согласно мнению которого, чтобы быть жизнеспособной, личность переходного периода (от тоталитарного к демократичному обществу) должна быть достаточно жесткой и конкурентоспособной. Такой жизнеспособный человек по результатам своей деятельности ориентирован в большей степени не на общечеловеческие, гуманистические ценности, а на индивидуальные и групповые (Ильинский, 2001). Что же может случиться с человеком на таком этапе развития общества, если групповые ценности противоречат индивидуальным? По нашему мнению, именно противоречия между индивидуальными и групповыми ценностями и привели к потрясениям 1990-х годов в нашей стране.
Общественная история чаще показывает иную картину – для кризисных этапов развития общества характерно объединение его членов вокруг общечеловеческих ценностей, в то время как индивидуализм показывает свою несостоятельность и он губителен для индивида. Когда нет опасности, быть индивидуалис том гораздо безопаснее. Объединение людей вокруг доминирующей в обществе морали происходит во времена войн, катастроф, трагедий (см., например: Alpert et al., 2004; Gross, 2010; Schuster et al., 2001). Обсуждая подобные ситуации, стоит вспомнить о том, что М. Шелер выделял «ситуационные ценности» и противопоставил их «вечным ценностям», имеющим значение всегда и для всех. Последние ждут того момента, «когда пробьет их час, когда нужно использовать неповторимую возможность их реализовать; эта возможность может быть упущена, и ситуационная ценность останется навсегда нереализованной» (Франкл, 2000, с. 47–48). Если о значении вечных ценностей для жизнеспособности общества не возникает сомнений, то ситуационные ценности, которые во многом зависят от реальностей развития общества, необходимо исследовать постоянно, отмечая их трансформацию во временной перспективе, фиксировать изменения в их порядке. Что происходит в данный момент с вечными и ситуационными ценностями общества? Наблюдается обращение к традиционным ценностям, имплицитно представленным в обыденном сознании общества, ценностям незыблемым и практически лишенным динамики. Вместе с тем ценности семьи, справедливости, альтруизма серьезно изменили свою значимость, несмотря на то, что они по-прежнему могут оставаться определяющими в ценностной структуре общества. Коллективистские ценности и их значимость для современного общества, ранее присущие советскому обществу, для большинства населения перестали быть таковыми. «Средний россиянин сегодня сильнее, чем жители большинства европейских стран, привержен ценностям богатства и власти, а также личного успеха и социального признания. Сильная ориентация на личное самоутверждение оставляет в его сознании меньше места для заботы о равенстве и справедливости в стране и мире, о толерантности, о природе и окружающей среде и даже для беспокойства и заботы о тех, кто его непосредственно окружает. Также серьезная озабоченность низким уровнем альтруистических, солидаристских ценностей в российском обществе и, наоборот, гипертрофированностью индивидуалистических ориентаций, которую выражают публицисты, ученые и общественные деятели, вполне обоснована» (Магун, Руднев, 2008, с. 115–116). Эти данные о ситуационных ценностях России первого десятилетия XXI в. принципиально отличаются от бытующих представлений о вечных ценностях современного российского общества. Одним из решений обозначенной проблемы может стать общероссийский дискурс о тех базовых ценностях, без которых невозможно приемлемое общество в России. В поле этого дискурса должны попасть такие ценности и ценностные позиции: власть и вседозволенность, социальный порядок и свобода, повседневный гуманизм и справедливость (Лапин, 2003, 2010).

