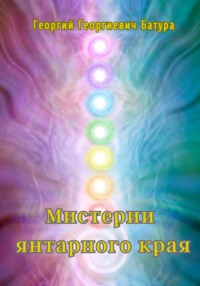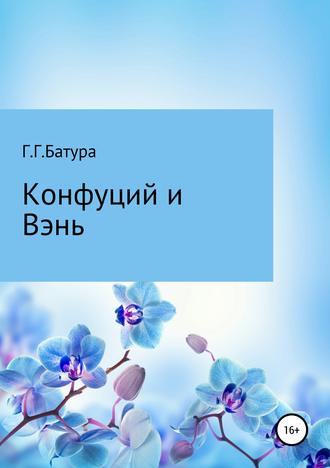 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
Вот родилось чудное «дитя» в груди человека – у него «проснулось» сердце в опыте Вэнь. Человек его лелеет, бережет, ласкает, – и, наконец, начинает с ним «общаться», как с настоящим живым ребенком. Но время проходит, и такой «ребенок» растет, если с ним правильно общается «воспитатель». В конце концов, приходит время, – у Конфуция это заняло 10 лет (судя по всему, условных) после «рождения дитя», – когда человек почти полностью «уходит» в этого «ребенка» и им становится. Он смотрит на мир не своими прежними глазами, а уже глазами этого «дитя» и подчиняется ему – но уже себе новому – во всем. Такому не надо говорить: «не убий», «не кради», «не лги» – все это, как новая основа бытия, принадлежит сердцу этого человека. И более свободного в своих поступках человека не существует.
Хотя, конечно, есть ограничения, и именно о них говорит Конфуций в своей «автобиографии», причем, совершенно справедливо. Есть «Правила» или «Забор» (иудейский богословский термин), через который нельзя «перелезать». Этот «высокий забор» специально поставлен вторым Принципом для того, чтобы человек вдруг не «поза́рился» на все, связанное с Принципом первым и не ушел бы навсегда из-под влияния «второго». Второй Принцип – это та сансара, которая является «топливом» или источником существования этого всесильного Принципа Земли. Именно это, и только это страшит иудейского Бога Яхве – «утрата сансары», – поэтому для реализации запрета «выхода за ограду» допустимы все «недемократические» средства: ложь, лесть, подкуп и даже убийство.
Причем, речь в данном случае не идет о нарушении моральных заповедей «райских религий», а только о тех ограничениях в «поисках Истины», которые налагает на человека «Принцип Яхве». В Древнем Китае Небо представляли в виде «круга», а Землю – в виде «квадрата». Иероглиф, изображающий «квадрат» – это «рот» или «пасть» того тао-тэ иньцев, которые приносили этому Принципу человеческие жертвы. В Чжоу ритуальный орнамент в виде тао-тэ («пожиратель», «обжора») исчез, потому что появилось «совершенное Дэ» в виде опыта «раскрывшегося Неба». И по духовным законам бытия «Принцип Яхве» ретировался. Но все равно остались ограничения, предписанные ритуалом Ли, потому что и «Небо», и «Земля» – это тот же самый «Принцип Яхве». Существует единственный способ выйти за пределы этих «ограничений» – стать человеком Царства или человеком-Бра́хманом, что одно и то же.
А почему, все-таки, этот второй Принцип во многих религиях мира отождествляется с каким-то Монстром-пожирателем? Только потому, что это и есть его истинная онтологическая сущность, которая так страшна для человека. Образно говоря, этот Принцип может существовать только за счет «крови», – он «питается» (поддерживает свое существование) благодаря той энергии страданий, мучения и страха, которую излучает любое человеческое существо, зверь или дерево, когда его убивают. Отсюда – великая любовь всех Богов к человеческим войнам, к их ужасам и бедам, – всех тех Богов, которые олицетворяют собой этот Принцип. Отсюда – обязательное требование регулярных кровавых жертвоприношений, отсюда – специальные жертвенные алтари. Так было в Древнем Египте, в Ассирии, в Древней Греции и Риме, в Иудее, на всем Ближнем Востоке, в Индии, в Америке индейцев, в Древнем Китае. И все это – один и тот же Бог-Принцип, который, становясь главной всех «райских» религий, «одевает на себя» разные маски-личины.
Отказаться от кровавых жертвоприношений этому Богу (а значит, и от него самого) решились – впервые в истории человечества – только зороастрийцы, да отчасти те мандеи-назареи («голубя» в жертву все-таки приносили, правда, отрезая ему голову «назад») – те мандеи-назареи, из среды которых вышел Христос. И обе эти «толерантные» религии – в отличие от всех других – до сегодняшнего дня фактически не дожили. Зороастрийцев поглотил воинственный ислам, а остатки мандеев рассеялись в результате недавней иракской военной операции американцев. И за всеми такими действиями человека невидимо «стои́т» все тот же «второй Принцип».
Итак, мы закончили рассмотрение духовной автобиографии Конфуция, и как бы подытоживая вышесказанное, приведем полный смысловой перевод этого важнейшего суждения:
2.4. Почтенный сказал: «Я в 10 лет имел видение, и у меня появилось стремление подражать древним образцам. В 30 лет я полностью утвердился в чжоуском ритуале Ли. В 40 лет я решил все свои сомнения относительно Дэ и Дао. В 50 лет я узнал о Тянь мин. В 60 лет я стал человеком-Вэнь. В 70 лет я следовал всему тому, что советовало мое духовное сердце, и при этом не преступал границ дозволенного Шан-ди».
И здесь можно только поаплодировать лаконичности и строгому порядку изложения такой духовной эволюции великого человека. Шан-ди – это и есть общечеловеческий «Принцип Яхве» в «переводе» на иньский язык. Наивно полагать, что «мир Конфуция» уже давно в прошлом и утратил свою актуальность для сегодняшнего человека. Автор рискует выглядеть совсем уж старомодным, суеверным и даже примитивным в глазах современника, но тем не менее, если автор пишет то, что здесь читает наш читатель, – это может означать только одно: Дух Конфуция не умер, не исчез бесследно, и сейчас его Шэнь рядом. Поприветствуй его, читатель! Он тебя услышит. («Тьфу, тьфу, тьфу! Чертовщина какая-то! Куда бежать? Ау, люди! Спасите, Христа ради!»).
Следующие четыре суждения посвящены вопросу Сяо, – так называемой «сыновней почтительности», причем, самое первое из них (2.5) охватывает этот вопрос наиболее глобально.
Суждение 2.5
2.5. Мэн-и-цзы спросил (вэнь) у Конфуция о почитании предков (Сяо). Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Не (у) будь [им] непокорным (вэй, т.ж. «не подчиняться», «выходить из повиновения»)». [Когда ученик] Фань-чи правил (юй) [повозкой], почтенный (цзы) сказал (юэ), обращаясь (гао) [к нему]: «Мэн-сунь спросил (вэнь) у (ю) меня (во) о Сяо, [и] я (во) ответил (дуй): не (у) будь [им] непокорным (вэй)». Фань-чи сказал (юэ): «Что (хэ) [Вы] подразумеваете (вэй)?». Почтенный (цзы) сказал (юэ): «[Когда предки] живы (шэн), – [принимай участие в] жертвоприношениях (ши), [когда] умрут (сы), – похорони (цзан, т.ж. «соверши погребение») по (и) Ли [и] приноси им жертвы (цзи) по (и) Ли».
Суждение очень прозрачное в своем понимании, но является принципиальным, исходя из самой сути Учения Конфуция. Мэн-и-цзы, он же Мэн-сунь, – это богатый вельможа княжества Лу. Уже одно то, что представитель элиты задает Конфуцию подобный вопрос, свидетельствует о том, что в обществе уже давно утрачено чжоуское представление о роли предков в обретении Дэ. А сам термин Сяо повсеместно воспринимается исключительно как должное отношение к живым родителям (т. е. фактически – нынешняя «сыновняя почтительность»). Выражение у вэй в современной переводческой практике чаще всего переводится в виде нейтрального «не нарушай», хотя это – вполне ясный императив Учителя: не перечь своим родителям и во всем им подчиняйся. Этот термин не всегда является исключительно бытовым: выражение вэй тянь – означает «ослушаться Неба». И нет сомнения в том, что Конфуцию это выражение было знакомо.
Интересно здесь также обратить внимание читателя на следующую пунктирную связь между соседними суждениями, что свидетельствует о продуманном подходе к порядку их размещения в Лунь юе. В предыдущем суждении (2.4) Конфуций заявляет, что он «не преступал границ дозволенного», а в настоящем – объясняет правильное понимание термина Сяо ученику, имя которого Фан-чи, где иероглиф фан в буквальном переводе означает «забор», «изгородь», «загородка», «*граница». И это – не случайно. И «граница», и «забор» – это то, что огораживает запретное от посягательств.
Речь в данном случае не идет о каких-то особых «предписаниях ритуала», которые следует соблюдать в отношении родителей – с тем, чтобы эти предписания не нарушать. Конфуций уверен в том, что пока отец жив, сын просто по-житейски обязан исполнять любые его просьбы и желания, какими бы «ненормальными» они сыну ни казались. В житейском случае это называется словом «служить» (тоже ши). Почему такое требование? И какова, в таком случае, логика рассуждений Конфуция? Для него самого главным является то, что ждет человека за чертой смерти, и именно с этим он связывает Сяо.
И для того чтобы успешно решить этот важный вопрос «о смерти», необходимо уже здесь, при жизни, научиться «постигать Дэ». А в этом человеку могут помочь только ушедшие предки, в том числе близкие родственники, т. е. в первую очередь умерший дед, а затем и отец этого человека, но может быть, и мать. Но при этом одно дело – сам отец, и совсем другое – его шэнь, т. е. «дух» этого уже умершего отца. Любой человек во время своей жизни может иметь странности в поведении и в привычках – какие-нибудь «причуды» или «излишества». При переходе в состояние шэнь все земное, умственное, «логическое», во многом утрачивается, но при этом сохраняется «память эмоций» – сильные желания, привязанности, обиды, приступы гнева. Женщина ближе к «тому миру», потому что она живет своим сердцем, эмоциями, и гораздо меньше – своим «рассудочным» умом. И человек-Вэнь – тоже ближе, т. к. он живет сердцем. И если отец при жизни был недоволен своим сыном и имел к нему какие-то претензии, в таком случае его шэнь вряд ли будет стремиться охотно «ниспосылать обильное Дэ» (или как-то содействовать в этом) своему непутевому потомку.
В этом суждении речь идет исключительно о «потустороннем» – о Ли, жертвоприношениях и о смерти, – хотя в своем ответе Конфуций сначала как бы снисходит до уровня земного понимания этого вопроса вельможей. Но далее он разъясняет своему ученику уже конкретнее: начинай свою благую вечную жизнь уже здесь, на земле, принимая участие в тех жертвоприношениях (ши), которые проводит отец или дед, или в которых они участвуют. Это – та непрерываемая цепочка связи живых с миром духов, которая остается такой же живой и после того, как уйдет из жизни дед, затем – отец, а затем – и сам сын. Они – но также и все живущие на земле – будут оставаться такими же живыми, пусть и невидимыми взору, как невидимы сегодня для человека его прадеды и все те, кто к этому времени уже умерли. Главный постулат всей духовной жизни подлинного Древнего Китая заключался в том, что человек не умирает, – и этого постулата твердо придерживался Конфуций, который во всем искренне подражал древности. По его убеждению это «семейное братство» должно оставаться нерасторжимым, и роль в этом любого человека – такая же, как его отца, а после этого человека – его сына. Поэтому первейшей задачей любого мужчины в Китае всегда было родить сына, а еще лучше – побольше сыновей.
Конфуций – как бы его не возносили впоследствии – был, фактически, простолюдином. И его духовная гениальность заключается в том, что принцип и технику «стяжания Дэ», которые были когда-то распространены в Чжоу исключительно в среде аристократов, он перенес в простонародье. Он готов был учить этому даже того бедняка, который принесет ему в качестве платы «связку сушеного мяса», т. е. фактически даром. Основываясь на своем личном опыте, он совершил гениальное, по тем временам, открытие: бедняк и богатый – Чжун-ни и Вэнь-ван – равны перед Небом, и в их шэнь нет принципиального отличия. Главное отличие – не в знатности или в богатстве человека, а то, что происходит в человеческом сердце: главное – та мета, которую это сердце преодолеет в своей земной жизни.
Семейная «круговая порука» – это обязательное условие достижения индивидуумом «райской жизни». Недаром в иудейском Писании мы читаем в Декалоге: «Почитай отца и мать своих». И в иудаизме – так же, как и в Древнем Китае – обязательным условием жизни по Закону является рождение многочисленных сыновей. Иудаизм – это такая же «райская» религия, как и Учение Конфуция. Разница заключается в том, что если Учение Конфуция – это осознанное личное стремление человека к преобразованию своей изначальной внутренней природы, то в иудаизме «Рай» даруется человеку в качестве «награды» от Бога Яхве – того «Принципа Яхве», которому всю свою жизнь служит законопослушный иудей. «Рай» – это духовная вершина «Принципа Яхве».
Псалмопевец Давид, у которого «расширилось сердце», сам не понимал того, что́ за чудо с ним произошло и какой участи он будет удостоен. Конфуций, в противоположность Давиду, все это прекрасно понимал и прекрасно знал, какой последует результат. Принципиальная разница в этих религиях – и это является главным следствием первого различия – заключается в том, что Учение Конфуция открыто для Христова Царства Небесного, в то время как для исторического иудаизма двери такого Царства наглухо замурованы. Потому что если у Конфуция поиск Вэнь – «техника» его обретения – является естественной ступенькой на пути к Царству, то иудей получает свою «награду» в первую очередь за то, что в своих духовных исканиях он не выходит за «забор Торы». И если он всю свою жизнь следует этому правилу, в таком случае вряд ли способен это изменить уже в зрелом возрасте. Главный же принцип обретения Вэнь и Царства провозглашен в первой заповеди Христа: «Ищите – и обрящете». Иудею «искать» за пределами разрешенного Торой запрещено. А здесь он просто обязан «выйти за ограду».
Общим у этих двух «религий Рая» является то – уже в качестве естественного следствия всего вышесказанного, – что цель рождения многочисленного мужского потомства, как правило, исключает случаи «непрелюбодейного» поведения в жизни как иудея, так и китайца. А следовательно, дорога в Царство закрыта также и китайцу, но уже по другой причине. Однако китайцу гораздо проще обойти эту древнюю традицию всего китайского общества: здесь всё зависит исключительно от его личного поведения. Если монах ради «подражания Христу» становится добровольным «скопцом» (подобное «подражание» носит ошибочный характер – и это элементарно доказывается логическим разбором греческого Евангелия), то китайцу, стремящемуся к Царству, можно уж как-нибудь прожить счастливую жизнь с любимой женой.
Фактически идеалом для процветания «райской религии» является такое положение дел, когда государство или народ – это некая условная «единая семья», что мы и видим в лучшие времена истории у евреев и у китайцев. Но на следующем этапе духовной жизни мужа подобная «семейная цепь» должна быть разорвана, и вместо нее новым подлинным единством должен стать непрелюбодейный союз мужа и жены. Это – против природы «животного» естества мужчины, которое стремится «оплодотворить всякую самку». Но в состоянии Вэнь человек перестает быть «оплодотворяющим самцом». А женщина – она, как правило (по своей природе), моногамна, если ее любящий муж обеспечивает ей радостное материнство и бережно охраняет общий семейный очаг. В Царство Небесное входит не представитель «образцовой семьи» – будь то мужчина или женщина, – а «слепленное воедино» целое, которое на земле называлось мужем и женой. И эта новая духовная категория, заявленная в евангельской проповеди Христа, неприемлема и непонятна всем тем религиям Рая, которые изначально ориентированы на низшую духовность. Проповедь Христа о Царстве и по этой причине тоже не могла быть открытой: ее базовая суть противоречит всем основам иудаизма.
Суждение 2.6
2.6. Мэн-у-бо спросил о Сяо. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Отец (фу) и мать (му) тревожатся (ю, т.ж. «горевать», «скорбеть», «беспокоиться») *именно (вэй) [тогда, когда] их (ци) [сын] болен (цзи, т.ж. «нездоровье», «недуг», «*губить»)».
В этом суждении очень наглядно виден грамматический принцип «экономного» построения древнекитайского предложения: если задан вопрос о Сяо и в ответе фигурируют «родители», значит иероглиф «сын/сыновья» можно опустить. Перевод этого суждения всегда одинаков, однако объяснение слов Конфуция нуждается в уточнении. Общепринятое понимание суждения заключается в том, что отец и мать при должном отношении к ним сына («сыновней почтительности») не имеют повода тревожиться ни о чем. В этом случае они живут, «как у Христа за пазухой». И только когда их сын заболеет, у них появляется единственный повод тревожиться о любимом сыне: как бы он, родимый, не расхворался и – упаси Дух! – не умер.
Однако в таких рассуждениях не достаточно логики. Подлинное Сяо всегда направлено от младших – к старшим: от сына – к родителям, от родителей – к ушедшим предкам. А Конфуций, при подобном понимании его слов, говорит как будто о чувствах родителей по отношению к сыну, т. е. в обратном для Сяо порядке.
Слово «сын» здесь отсутствует, но вельможа Мэн-у-бо, который задает этот вопрос, скорее всего, как раз и является таким подразумеваемым «сыном». Но если продолжить рассуждения в этом направлении, и если родители беспокоятся о болезни своего сына, то разве они не будут страдать, например, также и в том случае, если их сын не женат, хотя и прекрасно к ним относится (пример не совсем корректен, т. к. в Китае согласия молодых никто не спрашивал)? В таком случае у них обязательно найдутся причины тревожиться и о других обстоятельствах жизни их сына. И самое главное: мы в своих рассуждениях, следуя общепринятой логике, «опустили» мировоззрение Конфуция до уровня каких-то земных забот, хотя уже неоднократно убеждались в том, что все его мысли и устремления направлены к миру предков, но не к земному.
Из самого построения этого китайского предложения можно сказать, что общепринятая логика рассуждений не верна: родители тревожатся не «только лишь о том…», а «именно тогда…», о чем свидетельствует эмфатическая частица вэй, которая ставит логическое ударение на слове «болезнь». Ее значение «только лишь» носит более поздний характер и связано, скорее всего, с требованием «правильного понимания» этого суждения.
Родители могут тревожиться и о многом другом, но главная их тревога, – когда их сын болен. Почему? При этом из ответа самого Конфуция видно, что все окружающие уже давно понимают слово Сяо точно так же, как и все сегодняшние китайцы, но не так, как понимался этот термин в Чжоу и самим Конфуцием. В одном из своих суждений он говорит об «исправлении имен» (чжэн мин), т. е. о правильном понимании древних слов Чжоу: ведь не будет же он для возрождения чжоуского Дао придумывать какие-то новые иероглифы?!
Нет сомнения в том, что вельможа задает этот вопрос по какому-то конкретному случаю из жизни своей семьи: возможно даже, у него есть претензии к своему собственному сыну. Но Конфуций заставляет его поднять свои глаза от земли и подумать о вечном. И при таком подходе – в ничто обращаются все возможные «тревоги» отца о сиюминутном состоянии его сына. Для правильного понимания мысли Конфуция целесообразно привести выдержку из книги В. М. Крюкова «Ритуальная коммуникация в древнем Китае» (М:, 1997, стр. 201):
Особое место среди «небесных даров» занимала «благодать» или «благая сила» (Дэ). Эта категория вообще играла центральную роль в западночжоуской идеологии. <…> Не менее важная группа «небесных даров» была связана с представлением о многочисленном потомстве как одном из важнейших условий индивидуального и кланового благополучия. Мужские потомки являются продолжателями рода, чье единство обеспечивается постоянством жертвоприношений предкам. Обилие потомства в семье гарантирует обильные же жертвенные подношения усопшим родителям.
А если единственный сын вдруг заболел и умер? Ведь в прежние времена не было никаких антибиотиков или других действенных лекарственных средств, и люди очень часто умирали от болезни в молодом возрасте, а не от старости. И кто, в таком случае, будет кормить жертвоприношениями духи родителей, когда те умрут? Именно эта мысль является главной в ответе Конфуция. Кстати сказать, именно такую трагедию пережил сам Конфуций: его единственный сын умер раньше него.
Неразрывна цепь ушедших предков и новых нарождающихся потомков на земле. Для Конфуция – все они живы и требуют к себе отношения по древнему ритуалу. Кстати сказать, покойники были «живы» и для нашей современницы – болгарской прорицательницы Ванги, которая их «видела» своими незрячими глазами. Конфуций в данном случае беспокоится только об одном: чтобы всякий дух ушедшего родителя смог обрести упокоение в потусторонней жизни, – и только в этом случае он может как-то «ниспослать Дэ» своим земным потомкам или этому хоть как-то содействовать. Это – что-то наподобие «единого братства» живых и мертвых.
Суждение 2.7
2.7. Цзы-ю спросил (вэнь) о Сяо. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «В нынешние времена (цзинь) Сяо считается правильным (ши), как говорят (вэй), у того, кто (чжэ) может (нэн) содержать (ян, т.ж. «кормить») [родителей]. Но переходя (чжи) к (юй) собакам (цюань) и лошадям (ма), – [их] всех (цзе) [тоже] могут (нэн) содержать (ян) некоторые (ю) [люди]. [Если] не (бу) в благоговении (цзин), то в чем (хэ) [же еще будет состоять] отличие (бе) [Сяо от подобного отношения к животным]?».
Цзы-ю, он же Янь-янь (здесь – разные иероглифы), – это один из самых способных учеников. Из ответа Конфуция уже однозначно следует, что к его времени термин Сяо понимался китайцами в быту так же, как понимается сейчас. Причем, в нашем сегодняшнем европейском обществе Конфуция бы поняли далеко не все: у многих из нас гораздо больше благоговения к домашним питомцам, чем к своим родителям или близким родственникам.
Так в чем же разница между той «собакой» и «человеком», которых содержат в тепле и накормленными? Ведь не секрет, что сегодня в мире действительно существуют хозяева животных, которые в прямом смысле слова «трясутся» над своими питомцами и сами готовы им служить. Для «богатых собак» и «богатых кошечек» нанимаются специальные самолеты, строятся гостиницы с «ресторанами», «бассейнами» и «парикмахерскими», – о чем не может мечтать подавляющее большинство жителей земли. Переводя это на нормальный человеко-животный язык, можно сказать так: одно животное содержит другое животное, и каких-либо принципиальных интеллектуальных различий между ними нет, как бы более разумное животное на подобные слова не обижалось. Причем, глядя на ретроспективную динамику, можно уверенно спрогнозировать, что в недалеком будущем в европейском либеральном сообществе будет официально разрешено «брать в жены», или «выходить замуж» за какого-нибудь кобеля, кошку, коня или осла. Почти как у Апулея в его «Золотом осле», только уже безо всякой метафизики.
Итак, «лошади», читающие Евангелие – мы, кажется, об этом сейчас говорили… разве нет? Да, и тем не менее, разница здесь принципиальная, но это – только по мнению Конфуция, а не по мнению этих собак или лошадей. Мы, люди, этой разницы не видим по той причине, что все многообразные «египетские миры» фактически выродились для нас в один единственный мир земной жизни (всесильный Принцип Яхве при таком положении вещей громко аплодирует). Другого мира для нас просто не существует, а что будет с нами после нашей смерти, мы не знаем и знать не хотим. Такова главная парадигма нашего европейского общества и нашей сегодняшней «науки», которая ограничила себя исключительно земными представлениями. И уж действительно лучше истово верить (Свят! Свят! Свят!) во всех этих «несуществующих» духов Конфуция, чем всю свою жизнь прожить европейцем с положенной тебе кобылой в качестве «жены».
Когда-нибудь наша «наука» вдруг откроет (и тут же повесит себе «медаль на грудь» или вручит кому-нибудь улыбчивому седовласому ученому Нобелевскую премию), что что-то наподобие «потустороннего мира» все-таки существует. Но все мы, – те, которые бездумно верим ей сейчас, – свое время в этой жизни уже проспали, «наш поезд» ушел, потому что мы всегда придерживались принципа «верить науке».
Но если действительно существует только «один мир», значит, и вся наша лексика, терминология – только для этого мира. В китайских иероглифах, которые изначально создавались как средство общения с миром духов, – не так, и у Конфуция тоже не так. У Конфуция нет «духа собаки», но есть «дух отца», хотя в нашем земном мире отец и собака одинаково существуют. И в таком случае у Конфуция слово «благоговеть» (цзин) не может иметь отношение к «миру собаки», а только – к «миру духов». Цзин – это «почитать», «преклоняться», «благоговеть».