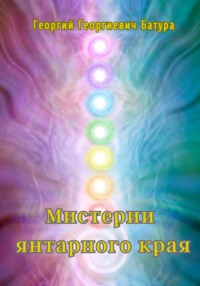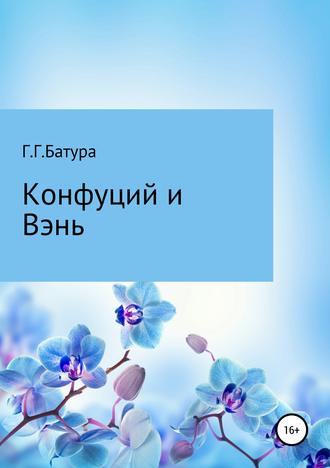 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
Можно, конечно, жить для того, чтобы «прославить свое имя в веках» и чтобы оно не исчезло из памяти людей, но это – цель мифическая. Хотя древние египтяне именно в этом видели смысл (с учетом праведно проведенной жизни), т. к. именно таким способом – существованием в мире живых людей своего имени-рен – они надеялись продлить свое посмертное существование.
Те европейские народы, которые жили 200 и более лет назад, были иными, чем мы, сегодняшние: они верили в Бога и бесхитростно полагали, что высшее предназначение человека нам неведомо, но оно все-таки существует и оно известно Богу. Для многих таких христиан некой абстрактной и отдаленной целью были прекрасные «райские обители», куда они надеялись попасть и где хотели бы отдохнуть от забот в этой жизни.
Можно задать себе такой вопрос: кто из великих первым обратил взор человека в правильном направлении для отыскания ответа на этот «вечный» вопрос? Ответ здесь однозначный и не имеющий вариантов: это тот «Христос», проповедь которого о «сказочном» Царстве человечество никогда не понимало и не понимает до сих пор. Главной евангельской заповедью этого святого мандея являлось единственное слово: «Ищите». Ищите правду этой жизни, и обря́щете ее подлинный смысл.
Сам Христос знает ответ, но прекрасно понимает, что для любого человека решение этой сложной проблемы лежит в иной плоскости, нежели та, которая связна с существованием нашего «мясного» тела. Он понимает, что пытаться ответить на этот вопрос словами (какими бы правильными, точными и прекрасными они ни были!) бессмысленно: никакой человек, пребывая в состоянии «животного» (не «рожденного свыше») Его слова понять не в состоянии, – точно также, как никакое домашнее животное не понимает всех «убедительных» доводов нашей разумной человеческой речи. Ведь и евангельский умница Никодим тоже не понимал слов Христа. Надо самому «родиться свыше», – и это единственный способ для понимания подобных слов. И не только слов Христа, но также и Конфуция. Потому что Путь у этих Учителей один и тот же.
То есть необходимо самому пройти весь этот путь внутреннего духовного преобразования. Тот человек, который действительно ищет истину своего существования на земле, и который хочет надеяться, что решение этой проблемы все-таки существует (а если нет, тогда – чисто по-русски – «пропади всё пропадом!»), со временем всегда приходит к определенным текстам: он начинает интересоваться теми источниками, в которых подобные ему люди пытались на этот вопрос ответить. В конечном итоге он начинает изучать те религиозные тексты (подлинники этих текстов, т. к. к этому времени уже доподлинно знает, что сами переводчики ничего в них не смыслят и объяснить их не в состоянии), в которых собраны слова наиболее выдающихся «искателей Истины».
Евангелия с проповедью Христа – это первый и главный из всех тех указателей, в которых данная проблема человеческого существования на земле разъясняется наиболее точно. Именно так человек приходит к чтению того конкретного текста, в котором фигурирует тот или иной «дух верха». При этом такой человек на начальном этапе чтения совершенно не имеет представления о существовании каких-то «духов» и их возможной роли в его личной жизни.
То есть обращение к самому тексту – это только одно из последних звеньев заповеди «Ищи́те», а не стартовая позиция такого человека. К этому времени человек становится уже гораздо более опытным и мудрым, чем в самом начале своего пути. И вполне возможно, что сначала и ему тоже эти тексты не были интересны, как и для того читателя, который мог бы задать подобный вопрос.
Но еще раз повторим главное. Например, первой действительно духовной книгой, которую полюбил автор, была Бхагавад Гита. Затем автор неожиданно (когда был в отпуске) познакомился с «дедушкиным» дореволюционным Евангелием, еще с «я́тями». Через какое-то время автору стало не интересно читать этот синодальный перевод Евангелий, гораздо более точным с точки зрения понимания смысла оказался церковнославянский перевод (это, фактически, «калька» с гречечского подлинника). Но и этот перевод не давал ответы на многие возникшие вопросы, точно так же, как не внесли ясность переводы английский и польский. Автор вынужден был обратить свое внимание к классическому древнегреческому языку. И очень многое из того, что сказано Христом, и что совершенно не понимают богословы, автору стало понятно только после изучения древнегреческого языка под руководством прекрасного преподавателя, и после чтения греческого подлинника Евангелий. Причем, не в Византийской православной версии этого текста, а в научном издании Нестле-Алланд. А вот книга Апостол – этого же Нового Завета – автора никогда не интересовала и не интересует до сих пор. И более того, для ее понимания вовсе не требуется знание греческого языка: в данном случае подойдет любой грамотный перевод, т. к. здесь нет никаких «сокровенных тайн».
Но вернемся к нашим сравнениям. Несмотря на постоянно присутствующую «разность потенциалов» между грозовым облаком и поверхностью земли, разряды молний не случаются ежесекундно, – по той причине, что воздух, разделяющий эти воображаемые «обкладки конденсатора», является естественным диэлектриком. Именно «дух верха» способен изменить «электрическое сопротивление» этого диэлектрика и в какой-то момент времени обеспечить его «пробой» – послать «молнию»-опыт человеку, т. е. транслировать ему «благодать Духа Святого». Повторим, что «Дух Святой» – это уже, в каком-то смысле, «доработка» того имеющегося в природе «Духа», который является «электричеством» молнии. «Доработка» – осуществленная конкретным «духом верха».
«Дух верха», который является «проводником электричества» (будучи сам носителем Духа Святого), как бы занимает позицию между этими воображаемыми «обкладками конденсатора», аннулируя тем самым диэлектрические свойства изолятора. В результате чего и происходит разряд молнии. Все жившие на земле святые были убеждены в том, что после смерти они будут обладать сознанием и влиять на земные судьбы людей. Именно таким был Христос. Таким был и наш Серафим Саровский. «Для всех вас я всегда живой» – говорил он своим монахиням о том времени, когда умрет.
«Дух Святой» сознанием не обладает, это – некая благая энергия (благодать), в то время как просто «Дух» – энергия не всегда благая. И в то же самое время «дух верха» эту благую энергию сам не создает, а только ею «наполняется», как пчела нектаром, – и ею «управляет». Но при этом ясно также и то, что «приёмником» такой энергии может быть только человек, который безупречно следует изначальным законам Принципов Бытия: такой человек в обязательном порядке должен предварительно вписаться в «матрицу» этих Законов. «Дух верха» не имеет возможности открыть окно благодати какому-то нарушителю морали. Это – не в его силах, т. к. противоречит общим Законам бытия. Нельзя – это важнейший принцип жизни человека, который готов к получению духовного опыта.
Для китайцев олицетворением нравственного Закона было Тянь. Но при этом древние китайцы не выделяли женский Принцип (Шакти) из «мужского» Неба-Тянь (представление об инь-ян появилось в Китае значительно позднее, уже после Конфуция), и поэтому китайцы считали, что именно Верховное Небо является главным транслятором энергии Дэ человеку. Древняя китайская цивилизация не рассматривала женское начало, а значит, и саму женщину, в качестве краеугольной основы существования Космоса. Это нашло отражение в том, что в китайском языке изначально отсутствовал грамматический женский род: этот древний язык предусматривал только один безотносительный грамматический род, и это – что мысленно или подсознательно всегда подразумевалось – был род мужской. Возможно, это было связано с тем, что все «духи верха», включая самых известных – Шан-ди и Вэнь-вана, – были некогда мужчинами, а сам язык формировался как средство общения с этими «мужским» духами. Такое древнее представление китайцев о роли «женского» сохранилось в обществе и ко времени жизни Конфуция, о чем однозначно свидетельствует текст Лунь юй.
Тот «гром», который мы слышим после разряда молнии – раскатистый во времени гул, – это и есть продолжительный процесс осмысления самим человеком случившейся «молнии». Но это также и ощущение тех окружающих людей, которые самой «молнии» не видят, но которые обязательно окажутся под воздействием такого события. Евангельский Никодим «молнии» не видел, но при этом в полной мере ощутил на себе влияние того «грома», который «прогремел» над Христом во время Его Крещения.
И еще одно замечание, не менее важное. По физической природе самого явления человек видит не тот разряд молнии, который идет сверху вниз, от облака – к земле, а обратный ход молнии в небо по уже проложенному ионизированному каналу. Странно, но в духовном опыте, по какому-то удивительному совпадению, существует подобие: на прямой приход молнии-благодати от «духа верха» где-то из сокровенной глубины нашего человеческого «я» рождается непроизвольная и неконтролируемая «обратная молния» искреннего сердечного благодарения, адресованная тому «духу верха», который стал причиной рождения этого человека свыше. Вневременный «опыт-молния» – это одновременно и «прямой» и «ответный» ход благодати Духа Святого. Благодарность-благодать возникает не потому, что человек осознаёт все то, что с ним произошло – сознание не успевает включиться и обработать эту информацию, – а это некий сокровенный ответ «от ставшего равным – к равному». От Атмана – к Брахману, так сказал бы грамотный (а может быть, и не совсем грамотный) индус. «Все вы Боги» – так объяснил это евангельский Иисус окружающим Его евреям.
Вопрос этот действительно не простой, и возможно, кому-то из читателей он показался не совсем понятным. Поэтому давайте уже без сравнений – несколько по-другому – постараемся повторить читателю самые общие принципы той духовной жизни, в которую оказался вброшенным не один Конфуций, но которая свойственна любому человеку по природе.
Итак, изначально (а на вопрос: что́ конкретно было до этого «начала» – никто не ответит, разве что только Гимны древнего Египта) в нашем мире царит единый строгий порядок существования всего видимого и невидимого мира, как бы его Закон. В поддержании этого установленного незыблемого порядка (Кем установленного? – это неразрешимый вопрос для земного разума человека, и не стоит тратить на его решение напрасные усилия) принимают участие два Принципа. Эти Принципы лишены сознания (в нашем понимании этого слова), как, например, известный нам Закон всемирного тяготения, который действует повсеместно и на все объекты одновременно, независимо от каких-либо внешних или внутренних обстоятельств.
Принципы – это, фактически, аллегорические отображения всеобщего Закона развертывания и существования Космоса, зафиксированные в виде двух мифических Богов еврейской Книги Бытие – Элохима Шестоднева и Яхве последующих глав. Впервые эти два основополагающих Принципа единого Бытия или единого Закона были сформулированы в космогонических Гимнах древнего Египта, откуда они и перекочевали в еврейскую Книгу Бытие. И именно по причине заимствования сами евреи никогда не понимали смысла первой главы Книги Бытие.
Вторая «сила», действующая в духовном мире, – это уже не Принципы, а «Боги», причем, Боги, обладающие сознанием. Китайцы называли этих Богов «духами верха». Все подлинные «Боги» человечества – это те жившие когда-то на земле выдающиеся люди, которые полностью или частично завершили свой «эволюционный» духовный путь в течение земной жизни. Вэнь-ван китайцев, если характеризовать его по-европейски, – это тоже Бог, который оказывает влияние на земную эжизнь людей, например, на Конфуция. Мысль о том, что Боги – это бывшие люди, не нова и была высказана еще в Древней Греции.
Главной и единственной целью жизни человека на земле является «становление Богом». Это означает полное «свертывание» свершившейся в баснословные времена эволюции Космоса, – «свертывание» в обратном порядке. Это – инволюция человека в пределах самого себя, как микрокосма, которая заключается в возвращении к состоянию Адама Шестоднева. То есть это не есть возвращение к «райскому» состоянию Адама и Евы, которое имеет прямое отношение к Принципу Яхве: «райское» состояние – это только промежуточная «стоянка» на этом пути. Речь в данном случае идет о возвращении к состоянию Принципа Элохима, – к единому для мужа и жены Адаму Шестоднева, что и называется «Царством Небесным» в евангельской проповеди Христа. Евангельский «Отец» Христа – это и есть Элохим.
Все мы пребываем после своего рождения в мире Принципа Яхве. И именно «живые Боги» – «духи верха», если следовать китайской терминологии, – реально помогают человеку выбраться из той «ямы» (индусы называют ее «сансарой»), в которой мы себя обнаруживаем после осознания своего положения. Поэтому все такие Боги и называются «Спасителями»: без их реальной помощи, выражающейся в тех «энергиях», которые они транслируют человеку, остановить этот вечный круговорот Бытия невозможно. Только с помощью благих «энергий» этих «духов верха» или «Богов» – энергий в виде китайского Дэ, а затем греческого ха́рис – человек может завершить процесс своей инволюции.
И всё это – не какие-то фантазии или «теории» автора настоящей книги, а тот закономерный логический вывод, который является следствием рутинной систематизации духовного опыта жившего на земле человечества. Чего-то своего, нового, автор не придумывает. Бесспорно, мнение читателя может быть иным, – таким, что все человечество раньше ошибалось. Ошибались даже все лучшие его представители. И что слушать надо только современную науку. Рассуждать подобным образом – законное право каждого из нас. Мы рождены такими, – человек по природе своей таков, что каждый свободен в выборе своего пути.
* * *В качестве рабочего Приложения к объяснению всех базовых терминов Учения Конфуция мы приводим перевод четырех первых глав Лунь юя с подробным комментарием к каждому суждению. Знакомясь с этим переводом, читатель увидит, что Лунь юй впервые обретает вид разумного последовательного текста, в котором одно высказывание нисколько не противоречит другому. Более того, в этом случае переводчику не надо демонстрировать свои способности «эквилибриста» в вэньяне или, с другой стороны, делать вид, что того или иного иероглифа в тексте не существует. В правильно понятом Лунь юе Конфуций предстает перед нами как действительно величайший духовный Учитель не только Китая, но и всего человечества.
Лунь юй: Перевод четырех первых глав
Глава 1
Суждение 1.1
1.1. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Подражать (сюэ, т.ж., «учиться [у кого-л. ]», «следовать [кому-л. ]») [древним] и (эр) *это (ши) *повторять (си, т.ж. «*приучать [к чему-л.»]), – не (бу) так ли (и) [можно] *снискать расположение [духов предков] (юэ, т.ж. «*радоваться», «*снискать расположение (напр. демонов и духов)»; значения табуированного иероглифа-омонима: «с радостью повиноваться», «доставлять радость», в том числе, духам предков)? Бывает так, что (ю) близкий по духу (пэн, т.ж. «единомышленник») приходит (лай, т.ж. «*возвращаться») [к человеку] из старых (юань) *бамбуковых скрижалей (фан, т.ж. «*дощечка для письма»), – это ли (и) не (бу) *гармония (лэ, т.ж. «*согласие») [взаимопонимания]? Люди (жэнь, т.ж. «человек») [ничего об этом] не (бу) знают (чжи), а (эр) [этот человек] не (бу) *гневается на (юнь) [них]. Не (бу) таков ли Цзюнь цзы?».
Предварительно сообщим читателю, что «звездочкой» (*) в нашем переводе отмечены все те значения иероглифов из «Большого китайско-русского словаря» под ред. проф. И. М. Ошанина, которые и в Словаре тоже отмечены этой «звездочкой» и о которых сказано следующее: «Звездочка (*) означает, что предшествующее этому знаку китайское слово (словосочетание) или одно из его значений принадлежит только древнекитайскому языку (текстам не позднее III в.) и в современном тексте может присутствовать как архаизм».
В переводе в круглых скобках курсивом приводится произношение иероглифа в общепринятой русской транскрипции Палладия, а также даны те словарные значения, которые дополняют или конкретизируют выбранное семантическое поле. Слова, заключенные в квадратные скобки, призваны уточнить смысл суждения исходя из всего контекста Лунь юй или с учетом конкретных реалий жизни той эпохи.
Особо отметим, что мы не стремились к созданию литературного (художественного) перевода. Главной задачей для нас было дать читателю текст, максимально приближенный к смысловому содержанию подлинника. И сделали мы это с той целью, чтобы даже неискушенный читатель смог определить, насколько это соответствует истинному смыслу суждений Учителя.
Первое суждение, несмотря на свою кажущуюся простоту, относится к наиболее сложным из всего Лунь юя. Оно, – это некий важный зачин ко всем последующим беседам, и для его правильного понимания переводчик должен обладать всей той информацией, которую наш читатель получил в предварительном разговоре. Если это суждение окажется понятым неправильно, значит и весь остальной текст останется для комментатора или переводчика «за семью печатями». Тот перевод, который читатель прочитал выше, не имеет ничего общего с традиционным пониманием этого суждения. Поэтому нам придется уделить особое внимание его тщательному обоснованию.
Итак, большинству высказываний Конфуция в Лунь юе предшествуют, как правило, два иероглифа: цзы юэ. Иероглиф юэ – «говорить», «сказать» – в древнекитайских текстах вводит прямую речь, а иероглиф цзы более многозначен, и мы с ним еще неоднократно встретимся, причем, в разных его значениях. Вот что пишет об этом иероглифе М. Е. Кравцова (Поэзия древнего Китая, СПб., Центр «Петербургское Востоковедение», 1994, стр. 37):
Иероглиф цзы употребляется в качестве личного местоимения 2-го и 3-го лица, как форма вежливого упоминания или обращения (главным образом к мужчине), в значении «ребенок» (сын) или «дети» (независимо от пола) и, наконец, для обозначения уважаемого человека, в том числе в значении «учитель», «наставник», «мудрец». Как таковой он соединяется с фамильными знаками древнекитайских философов – Кун-цзы (Учитель Кун), Мэн-цзы (Учитель Мэн).
Мы переводим иероглиф цзы, стоящий во вступительной фразе, словом «почтенный», т. к. это слово больше отвечает тому представлению о Конфуции, которое существовало во время создания текста Лунь юй. Общекитайское признание Конфуция Учителем произошло гораздо позже – через столетия после его смерти. Слово Учитель невольно осовременивает древний текст. А слово «философ», которое можно встретить в некоторых переводах вместо традиционного «учитель», имеет ярко выраженную европейскую окраску. Греческое слово – фило-софия – в переводе означает «любовь к мудрости», и оно правомочно, например, по отношению к текстам Платона или Плотина, но в то же самое время это вряд ли отвечает содержанию проповеди Конфуция о Вэнь. Точно так же как некорректно, например, называть «философом» Христа (в Евангелии от Фомы критике такого «названия» Иисуса отведен отдельный параграф).
Первое суждение Лунь юя – как, впрочем, и зачин любого религиозного текста – принято считать особо важным. А иначе, это суждение никогда бы не было поставлено в начало произведения. Так в чем же заключается эта его особая значимость? Китайцы полагали (и полагают сейчас), что весь смысл первого суждения сконцентрирован в иероглифе сюэ – т. е. в требовании всегда и всему «учиться». Именно так всегда понималось и понимается в настоящее время значение этого иероглифа. Об этом мы тоже обязательно скажем, но сначала желательно дать небольшое вступление относительно того древнекитайского языка, на котором был впервые зафиксирован этот текст, и того вэньяня (тоже древнекитайский язык), на котором он в конечном счете достался китайцам и всему человечеству.
Наш читатель в какой-то степени уже представляет себе, что́ такое древняя иероглифическая письменность, и в чем заключается ее главное отличие от письменности алфавитной (обычной буквенной). Ее принципиальное отличие в том, что древние иероглифы (но не в современном китайском языке!) – это, скорее, некие воображаемые «картинки», а не привычные для нас «буквы». Следовательно, разговор о дословном (или буквальном) переводе такого «картиночного» текста бывает, как правило, некорректен.
Текст Лунь юй не дошел до нашего времени в том своем первоначальном виде, в каком он был записан учениками через десятилетия после смерти Конфуция (стилем чжуань – «печать» или письменностью гу – «древняя»). Он дошел до нас в написании стилем кай шу, который окончательно утвердился не ранее конца династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), и который с тех пор практически не изменился по своей графике. Такая письменность – а она имеет иную по сравнению с современным языком грамматику – называется вэньянь. Вэньянь – тоже достаточно древняя письменность, в которой «картиночное» восприятие информации играет далеко не самую последнюю роль. И это несмотря на то, что по своему рисунку эти иероглифы одинаковы с современными (традиционными или полными, какими они по-прежнему остаются на Тайване, но не теми упрощенными, которые были приняты в Китае в эпоху Мао Цзедуна).
А следовательно, перевод с вэньяня очень часто будет выглядеть как некое описание увиденного на представленном взору рисунке. Из этого вытекает, что, текст на вэньяне – особенно с учетом его традиционной предельной сжатости – как правило многозначен, т. е. имеет «объем» и одновременно наполнен несколькими смыслами (в том числе, и «фонетическими»), что создает серьезные проблемы в случае перевода такого текста на наш «линейный» европейский язык. Однако такое его многомерное смысловое содержание нисколько не размывает главную мысль этого текста, а только дополняет и уточняет тот его основной посыл, который от такого иероглифического исполнения только выигрывает, т. к. приобретает некое «голографическое» измерение.
Вэньянь – если его воспринимать в качестве восприемника того утраченного древнего письма, на котором Лунь юй был когда-то зафиксирован изначально, – это что-то наподобие прямой передачи смысла через зрительный орган (от увиденного – к осознанию) без промежуточного преобразования в вербальную формулировку. Или иначе – передача некой «фотографии», а не абстрактных значков (букв), фиксирующих «фонетическую речь». Такой язык – это некая неизвестная науке лингвистическая загадка: и панорама, и мысль, и даже звучание одновременно, но никак не набор каких-то «слов» в нашем понимании.
Итак, традиционный перевод (а следовательно, и понимание) начала этого суждения выглядит следующим образом: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно?» (В. А. Кривцов), или «…не радость ли?» (В. П. Васильев), и такой перевод не имеет ничего общего с тем, что прочитал читатель в переводе выше. И действительно, далеко не каждый из нас испытывает «радость» от процесса обучения и тем более, от его повторения. При этом каждый разумный человек понимает, что учиться необходимо, и более того, такой человек осознанно уделяет этому процессу и время, и усилия. «Обучаются» – все, но «радость» испытывают не все. И в этом противоречие традиционного перевода. Хотя кто-то может возразить, что Конфуций имеет в виду себя самого.
Поясним (или повторим) для информации, что практически все значения иероглифов для нашего перевода Лунь юя взяты из «Большого китайско-русского словаря» (БКРС) в 4-х томах, составленного под ред. проф. И. М. Ошанина, причем, преимущество отдано их древним значениям. Иероглиф сюэ – который всеми переводится как «учиться» – имеет свое второе словарное значение – «подражать» или «копировать манеру». И логично предположить, что именно это его значение изначально и было главным и даже единственным, но со временем «авторитет Конфуция» и новая реальность Китая вывели на первое место обновленное понимание этого иероглифа в смысле «учиться» (ни сам Конфуций, ни древние китайцы так его понимать не могли).