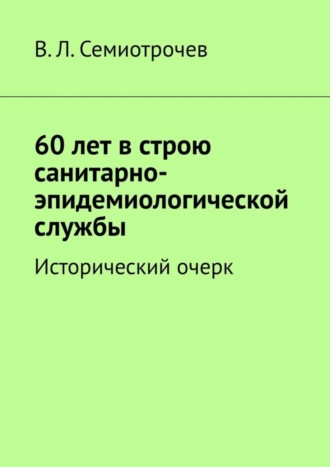
Полная версия
60 лет в строю санитарно-эпидемиологической службы. Исторический очерк
На мою долю выпало обследование населения Каракалпакской АССР – маленькой автономии в составе Узбекистана, на побережье Аральского моря. Санитарное состояние ее населенных пунктов было ниже всякой критики. Свалки мусора вокруг поселков, выгребные туалетные по берегам ирригационных каналов и арыков, из которых бралась и питьевая вода. Водопроводы только еще начинали строить в столице – Нукусе и в некоторых районных центрах. Жилища кишели мышами и мухами. На таком фоне из года в год росла заболеваемость всяческими инфекциями. Тут, конечно же, нашлось место и лепре. По статистическим данным, в те годы проказой болел чуть ли ни каждый десятый житель районов в дельте Амударьи! Известны несколько клинических форм проказы. Одна из них-так называемая «лепроматозная». Вид таких больных в большинстве случаев ужасен. Лицо одутловато и бугристо, перерезано глубокими морщинами, напоминает физиономию льва. Отсутствуют брови и ресницы, а у мужчин не растут борода и усы. Пальцы рук и ног – распухшие, отекшие, покрыты язвами. Есть формы и менее уродующие тело, так называемые «туберкулоидная» и «недифференцированная». Тогда заметны только пятна на теле, более светлые, чем окружающая кожа. Чувствительность их к уколам, к прикасанию горячих предметов понижена, а то и вообще отсутствует. В других случаях поражается нервная система: перекашивается лицо, отвисает нижняя челюсть, стопа ног, скрючиваются пальцы рук.
После ускоренной специализации по лепре в институте лепры г. Астрахани я два года участвовал в обследованиях жителей Каракалпакии на эту хворь, пешком обходил территорию Республики с севера на юг, не пропуская ни одного дома поселков ККАССР. Выявлял больных проказой и вез их на автотранспорте в Каракалпакский лепрозорий. Последнее оказалось наиболее трудным делом: шоферы, даже служившие в санэпидстанциях, категорически отказывались общаться с такими больными. Да и большинство сельских медиков под разными предлогами уклонялось от помощи. На машинах санэпидстанций, выполняя обязанности шофера, мне удавалось госпитализировать ежегодно до пятидесяти и более больных.
У Каракалпакского лепрозория весьма сложная биография. На территории нынешней Каракалпакии проказа известна с давних времен. До тридцатых годов ХХ века больных отправляли в Казахский лепрозорий, что значительно осложняло их эвакуацию. В 1933 году под лепрозорий отвели поселок Джаман-аул в Муйнакском районе, на одной из проток дельты Амударьи. Название не без «значения»: по-казахски «Джаман-аул» – «Плохой поселок», так как именно там селились в свое время страдавшие проказой. А в 1936 году при разливе реки лепрозорий смыло! Больных и оборудование перевезли в другой поселок, совхоз «Мечекли», вверх по течению коварной Амударьи. Там находилось около 500 больных. Были построены сам стационар, жилые корпуса, кухня-столовая, баня, прачечная, организовано подсобное хозяйство с большим фруктовым садом. В общем, лепрозорий стал вполне благоустроенным лечебным учреждением. Но в июле 1942 года его постигла та же беда: он снова был затоплен паводковыми водами Амударьи! Пришлось перебраться на новое место, менее подверженное наводнениям.
Ко времени моего участия в обследованиях лепрозорий продолжал строиться. Глинобитные домики, поделенные на хозяйственную и клиническую зоны, небольшой штат врачей, средних медработников, технического персонала. И при этом – более тысячи больных! Искренне хотелось помочь коллегам, поэтому при своих обследованиях старался не беречь ни сил, ни времени.
Однако регулярная организация таких экспедиций легла тяжелым бременем на финансовое состояние противочумной службы. Тем более, что началась очередная активизация природных очагов чумы, увеличилось число эпидемиологических отрядов, интенсивность эпизоотологического обследования, собственно противочумных мероприятий. Тогда, «идя навстречу просьбам» противочумных Институтов и станций, Минздрав вернул дело борьбы с проказой в прежнее лоно противолепрозной службы. Ну, а меня, оставшегося без очередного поля деятельности, перевели в эпидемиологический отдел Института, который возглавлял М.Ф.Шмутер. Со своим новым шефом я успел познакомиться, как сообщал выше, еще во время комиссионной проверки случая чумы у умершей девочки из Ак-молы, когда «корифеи» вынесли вердикт о якобы загрязнении посевов из органов вакцинным штаммом. Моисей Фишерович, памятуя мои «огрехи» на поприще чумы, разрешил мне работу только с сибирской язвой. Для этого я прошел еще одну специализацию, теперь в Молдавском институте эпидемиологии и микробиологии в лаборатории Э.Н.Шляхова. Вернувшись в институт после специализации, я занялся анализом заболеваемости сибирской язвой людей и скота на территории Казахстана. Заимел рабочие связи с Казахским институтом ветеринарии и Казахстанской Республиканской санэпидстанцией. Основные работы проводил в Чимкентской области Казахстана. Забирал материал от больных животноводов и сельскохозяйственных животных с подозрением на сибирскую язву, на заготовительных пунктах «Заготживсырья». Бактериологическое их исследование проводил на базе лаборатории Чимкентской противочумной станции.
Выполненная работа позволила выявить участки стойкого неблагополучия по этой особо опасной инфекции. Там были усилены наблюдения за здоровьем населения и скота, введена вакцинация животноводов сибиреязвенной вакциной СТИ. Для подтверждения диагноза у заболевших, во всех стационарах области ввели постановку внутрикожной пробы препаратом «Антраксин». Весьма важные результаты столь объемных работ я опубликовал в сборниках научных трудов Среднеазиатского н. и. противочумного института, Молдавского института эпидемиологии и микробиологии. Ну что же, проложен – таки, прямой путь в науку!
Но тут опять, то самое «НО»… В одном из сборников нашего института обнаружил свою статью, но под чужим именем! Получалось, что материалы для нее собрал не я, а другой сотрудник института – С.Я.Бадакер! В полном недоумении я обратился за разъяснением к моему начальству. Замдиректор по науке В.С.Петров, ученый секретарь В.Л.Ильинская, мой шеф М.Ф.Шмутер, ничтоже сумняшеся, «разъяснили» мне, что по решению Ученого Совета передали собранные мною и моими помощниками материалы для кандидатской диссертации С.Я.Бадакера. Сей «ученый» был в недавнюю пору заместителем Министра здравоохранения Казахстана, в этой должности, возможно, оказывал «определенные услуги» институту. Скорее всего, именно поэтому, после увольнения из министерства он и стал нашим сотрудником. По мнению руководства, он «конечно же, заслужил ученой степени», но, к сожалению, не имел опыта работы с особо опасными инфекциями, тем более с сибирской язвой (!). Почему не помочь «хорошему человеку»? Ведь от меня, дескать, не убудет! В конце концов, у нас ведь не «частная лавочка»! Ну и так далее, и тому подобное. Осталось только проглотить этот очередной финт! «О времена, о нравы!».
Кроме сибирской язвы, Ученый Совет института обязал меня оказывать «практическую помощь» ветеринарной службе той же Чимкентской области, где временами случалась массовая гибель скота по неизвестной причине. Периоды падежа совпадали с годами повышенной влажности. Роль особо опасных инфекций при этом мне удалось довольно быстро исключить. Может быть, заболевания как-то связаны с отравлением на пастбищах? Исследовали содержимое желудков павших овец. Среди полупереваренного корма обнаружили остатки токсичной травы под названием «люпин желтый». Именно он-то и был причиной острого отравления животных. В ветеринарии эта болезнь известна как «люпиноз». Это коварное бобовое растение в массе произрастает на пастбищах именно в годы с повышенной влажностью, редкие в полупустынных районах Казахстана. В засушливые же годы, которые наиболее часто наблюдаются в этих районах, его биомасса крайне мала и не угрожает здоровью скота. Ну что же, весьма любопытно! И в «копилку» местной ветеринарии внесен определенный вклад.
В июне 1963 г. мне пришлось оказывать экстренную помощь в совхозе Карла Маркса Казалинского района Кзыл-Ординской области Казахской ССР, где был зарегистрирован падеж крупного рогатого скота. Одновременно в этом поселке были выявлены 8 больных с подозрением на сибирскую язву. Моим обследованием было установлено, что причиной падежа животных и заболевания людей является возбудитель пастереллеза. Результат расшифрованной мной вспышки пастереллеза был опубликован в виде автореферата в восьмом номере журнале ЖМЭИ в 1965 г. Какая досада, впервые зарегистрировал вспышку пастереллеза в Союзе и на тебе только автореферат. Позже я читал ссылки на этот автореферат в трудах крупных эпидемиологов страны.
Но такая деятельность все дальше и дальше уводила меня от избранной специальности… Впрочем, моя основная специальность опять напомнила о себе в 1964 году. В июле этого года наш институт получил экстренное сообщение из Гурьевской противочумной станции о том, что в Мангыстауском районе Мангышлака человек заболел чумой. Туда срочно вылетел самолетом (все на том же нашем трудяге – АН-2) заведующий эпидотделом М.Ф.Шмутер. В качестве сотрудника эпидотдела директор института командировал и меня. Я выехал на поезде вместе с отрядом Алма-Атинской железнодорожной противочумной станции. В этом подразделении был вагон—лаборатория с полным оборудованием, что позволяло оперативно приступать к исследованию. С ближайшей к месту события железнодорожной станции мы добрались туда на присланной за нами грузовой машине. Моисей Фишерович вкратце ознакомил нас с обстановкой. Она складывалась следующим образом.
В одном из урочищ колхоза «Правда», на полуострове Мангышлак, на территории которого в текущем году на больших песчанках протекала интенсивная эпизоотия чумы, 8 июля заболел и умер от легочной чумы чабан. От него заразился помощник, к счастью, его успели во-время выявить, госпитализировать и начать лечить. А вот сейчас поступило новое сообщение о групповом заболевании жителей другого урочища, в результате прирезки больного верблюда. При этом один из резчиков уехал в неизвестном направлении. Требовалось срочное и детальное обследование обширного участка территории, чтобы выяснить эпидемиологическую ситуацию, найти всех участников забоя верблюда и использовавших его мясо, ликвидировать возникшие очаги и не допустить развития эпидемии. Мне, как полномочному представителю Среднеазиатского н. и. противочумного института, было поручено возглавить группу специалистов, командированных Минздравом СССР – врачей из Центральной противочумной станции и Московского института эпидемиологии. Увы, они не знали казахского языка, а из местного населения редко кто говорил по-русски. Кроме того, столичный их статус не совсем совпал с их опытом работы по чуме. Да и июльская жара и тряские «грунтовые» дороги вызвали заметное уныние моей команды. Жалеючи гостей и уважения ради, пришлось самому заходить в юрты и глинобитные кибитки, осматривать и опрашивать жителей, измерять температуру, советовать, как избежать заболевания чумой. Впрочем, это так, к слову. Чтобы лишний раз подчеркнуть специфику нашей работы.
В общей сложности на этот раз чумой заболели девять человек, из них двое легочной формой, семеро бубонной. В их числе оказался и тот, сбежавший. Погибли от чумы двое: первый заболевший легочной формой чумы заразился от больного чумой верблюда, у которого была по-видимому также легочная форма чумы. Второй больной с легочной формой чумы, которого удалось спасти, заразился от первого больного.
Переломным стал для меня 1965 год, когда после сорокалетнего «спокойствия» по холере в СССР она вновь вспыхнула на подведомственной институту территории в Каракалпакской АССР, знакомой мне по обследованию населения республики на проказу. Здесь я опять вынужден прервать повествование, чтобы ввести возможного читателя в суть проблемы.
Холера принесла человечеству бед не меньше, чем чума. «Холерой» ее назвали древние греки, что означало «рвота и понос с желчью». Появление ее, как и других повальных болезней, в древнем мире и средневековье объясняли кознями сверхъестественных сил или божьим гневом на грешников. Лишь к XIV веку медики обратили внимание на опасность больных холерой и чумой для окружающих. В 1546 году итальянский врач, астроном и поэт Фракастро опубликовал труд «О контагии, контагиозных болезнях и лечении», где привел убедительные факты последовательных заражений в результате общений (контактов) людей с больными этими «моровыми язвами». Первопричиной же болезней многие поколения врачей, вплоть до второй половины XIX века, считали самозарождение заразы в испарениях, миазмах грязных местностей и болот. В этом отношении европейские ученые разделились на два враждующих лагеря—«контагионистов» и «миазматистов». Основным приемом предотвращения широкого распространения контагиозных болезней сочли жесткие карантины. Пораженный пункт окружали войсками или добровольцами. Прекращали вход и выход из него, ввоз и вывоз продуктов питания, товаров. Порой сжигали жилища больных. Карантины объявляли даже в отношении целых стран, если там свирепствовали эпидемии холеры или чумы. Это тяжело сказывалось на экономике «отверженных».
В дело вмешались политики и «деловые круги», крайне заинтересованные в международной торговле, развитии рынков сбыта. «Контагионисты» стали терпеть поражение, так как, несмотря на самые жесткие и дорогостоящие карантины, болезни порой все же как-то умудрялись проникать на другие территории. Так, в 1831 году во Франции вспыхнула холера, хотя связи страны с колониями, откуда могла проникнуть эта напасть, в то время были перекрыты кордонами. Торговые фирмы, банки понесли из-за этого огромные убытки. Тут сама Французская медицинская академия встала на точку зрения «миазматистов», отвергнув опасность контактов с источниками заразы. А вот как писал о холере наш великий поэт А.С.Пушкин.
Позиции «миазматистов» особенно укрепились в конце сороковых годов XIX века, когда вопреки карантинным мерам холера продолжала охватывать страны одну за другой. Не укрепило позиций «контагионистов» даже открытие итальянским микробиологом Пацини неких необычных изогнутых бактерий в стуле больных холерой, которых он посчитал ее возбудителями. Их впоследствии назвали «вибрионами».
И только спустя тридцатилетие, в 1883 году, французскому ученому Роберту Коху, работавшему на холерной эпидемии в Египте, удалось, наконец, доказать роль бактерий-«запятых» в заболевании холерой. Доводы Коха, увы, были подтверждены к тому же заражением и гибелью от холеры другого бактериолога – Тюиллье, случайно пролившего на себя пробирку с вибрионами. Но и тогда открытие Коха подверглось сомнению. Известный в ту пору немецкий ученый Петтенкофер, решив опровергнуть способность коховских «запятых» вызывать холеру, выпил бульонную разводку вибрионов и не заболел!
И все же, под давлением многочисленных фактов выделения вибрионов от больных и из трупов большинство врачей признали-таки их истинными возбудителями холеры.
В России холера периодически регистрировалась в Одессе, Астрахани, в деревнях на берегах Волги, в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Петербурге. С 1817 до 1925 годов она в виде шести эпидемических «волн» – пандемий охватывала большинство стран мира, неоднократно посещая и Россию. При этом холера продолжала преподносить все новые сюрпризы.
Увлеченные молодой наукой – микробиологией, исследователи стали находить вибрионы в воде рек, морей, озер, даже в лужах, а больных холерой там не появлялось. Установили, что имеются и иные виды вибрионов, отличающиеся от холерных по биохимическим свойствами, устойчивостью к холерному бактериофагу и другими особенностями. Но решающими диагностическими признаками были: признаны: склеивание (агглютинация) микробных клеток возбудителя холеры специфической холерной сывороткой, даже при малых ее концентрациях, в хлопья, видимые невооруженным глазом, а также неспособность холерного вибриона растворять (лизировать) эритроциты овцы. Вибрионы других видов на эту сыворотку не реагировали и в большинстве случаев активно лизировали эритроциты овцы, морской свинки и некоторых других животных. В общем, бактериологи научились надежно отличать холерные вибрионы от нехолерных. Представителей этих последних видов назвали «водными вибрионами», неопасными для человека. Но вот в 1906 году немецкий бактериолог Готшлих на карантинной станции Эль-Тор, на Синайском полуострове, выделил от страдавших острой диареей паломников вибрион, совпадающий с холерным по всем признакам, кроме лизиса овечьих эритроцитов. Да и сами заболевания не были похожими на холеру. У больных отмечались боли в животе, высокая температура, кровь в стуле. Посчитали, что у них была дизентерия. Коховский вибрион назвали «классическим холерным» а готшлиховский – «вибрионом» Эль-Тор.
Вибрион Эль-Тор периодически вызывал вспышки желудочно-кишечных расстройств у жителей Индонезии на острове Сулавеси и Малайзии, не приводящие, как правило, к смертям. Посему Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила, что «заболевание, вызываемое вибрионом Эль-Тор, рассматривается как нехолерое и не включается в число карантинных «болезней». К пятидесятым годам ХХ века в отношении холеры сложился ряд постулатов, признанных практически всеми странами. Утверждалось, что вековечным «гнездом» холеры является Индия с ее жарким климатом и крайней антисанитарией, теснотой и скученностью огромной массы беднейшего населения. Единственным источником инфекции служит человек, больной холерой или бессимптомный носитель вибрионов. В другие страны инфекция заносится лицами, прибывающими из очагов холеры. Вода, продукты питания, загрязненные выделениями больных или носителей, опасны для пользующихся ими, но холерный вибрион не может долго сохраняться, тем более размножаться в них. Поэтому обнаружение возбудителя холеры в разного рода водоемах свидетельствует о наличии в их окрестностях больных холерой или ее носителей. После ликвидации вспышек холеры в странах умеренного климата, население которых обеспечено качественным медицинским обслуживанием и соблюдает санитарно-гигиенические нормы общежития, холерный вибрион не может укорениться. Важное эпидемиологическое значение имеет только классический холерный вибрион, вызывающий эпидемии с высокой смертностью.
Так было принято считать до шестидесятых годов ХХ века, когда вдруг стал стремительно распространяться по свету вибрион Эль-Тор, вызывая скоропостижные смерти с обезвоживанием организма, совсем как «классический». Пришлось той же ВОЗ в срочном порядке признать и его возбудителем холеры! Появился новый диагноз: ХОЛЕРА ЭЛЬ-ТОР.
К середине шестидесятых годов эпидемии холеры охватили Филиппины, Индонезию, Пакистан, Корею, Вьетнам, Иран, Афганистан, вплотную приблизились к южным рубежам СССР. Под угрозой проникновения заразы оказались Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, непосредственно граничащие с Афганистаном. Но, эта угроза казалась нашим руководителям весьма относительной, ведь по их мнению границы наши были надежно защищены «соответствующими инструкциями» от любых инфекций!
Вот, например, что предписывалось работникам Санитарно-контрольного пункта (СКП) в городе Термезе – областном центре Сурхандарьинской области Узбекистана и отделенном от Афганистана лишь рекой Амударьей. Иностранным гражданам, в случае эпидемий в их странах, не давалось права задерживаться в Термезе дольше одного светового дня. Их должны были принимать и сопровождать представители Узбекистана, хорошо инструктированные по мерам профилактики особо опасных инфекций. Одежда тех и других к концу дня подлежала дезинфицированию. Иностранцев размещали в специальном отдельном доме вблизи пограничной заставы, который также регулировали. Советские граждане, общавшиеся с такими зарубежными гостями, и даже все члены их семей ставились под медицинское наблюдение. А если уж в «стране убытия» регистрировалась чума, холера или оспа, так прием оттуда людей и товаров был вообще воспрещен. Ну какая же инфекция, скажите на милость, способна проникнуть сквозь столь надежный кордон!
Все же в начале лета 1965 года бдительный Минздрав СССР командировал в Афганистан известных ученых противочумной службы – А.К.Акиева, Н.И.Николаева, сотрудников ряда противочумных учреждений (Ю. Г. Сучков, Ю.В.Канатов и другие). Они осмотрели больных афганцев и пришли к заключению, что желудочно-кишечные расстройства у них мало похожи на холеру, заболевания разрозненны, не связаны друг с другом. Ну, а бактериологического обследования их не проводили, т.к. такой службы в Афганистане в то время не существовало, а наши консультанты необходимого лабораторного оборудования с собой почему-то не захватили. Наш Среднеазиатский н. и. противочумный институт тоже не очень волновался по этому поводу.
В первых числах августа 1965 г. руководство Института направило меня в Каракалпакию для консультации по поводу предполагаемой эпизоотии пастереллеза на краснохвостых песчанках. Эта инфекция встречается у большинства видов млекопитающих, птиц, в отдельных случаев она поражает и людей, а ее возбудитель в окрашенных мазках под микроскопом напоминает микроб чумы.
В г. Нукус я прилетел пассажирским рейсом в жаркий полдень 6 августа. Хорошо запомнил эту дату, так как именно с нее начался многолетний и полный приключений путь в новой области моей деятельности. Никто там меня и не собирался встречать, но Каракалпакская противочумная станция, куда я был командирован, находилась в «шаговой доступности» от аэропорта. Так что добраться до нее пешечком с моим легоньким походным чемоданчиком не составило никакого труда. Станция размещалась в одноэтажных глинобитных и щитовых домиках, окруженных крепким бетонным забором. Мое командировочное удостоверение без труда открыло мне доступ на территорию. Да к тому же сторожа уже знали меня по недавней работе по лепре. Я предоставил свои «верительные грамоты» чем-то сильно озабоченному пожилому начальнику станции П.А.Грекову. Повстречался с моими сверстниками, врачами из Тахта-Купырского противочумного отделения – Валерием Чумаченко и Виктором Серединным. Те с тревогой попросили меня, в качестве консультанта из института, посмотреть культуры, выделенные от больных людей, страдающих желудочно-кишечными расстройствами. Такая же культура от больного острой диареей была выделена и в станционной лаборатории И.Б.Островским. Мы все вместе быстро убедились, что полученные ими культуры являются холерными вибрионами. Ничего себе, командировочка! Конечно, мы тут же направили срочные сообщения о выделении холерных вибрионов из материала умерших от диарей Минздравам: СССР, Каракалпакии, Узбекистана, как это и положено по инструкции. Сообщение выслали утром 7 августа. А вечером этого же дня в Нукусе вдруг поднялся страшный переполох. Начальника станции Грекова срочно вызвали в местный Минздрав: прибыла высокая комиссия из Ташкента в составе члена ЦК Компартии Узбекистана М. М. Мусаханова, зампредсовмина Узбекистана В. А. Азимова, председателя республиканского КГБ С.И.Киселева, министра здравоохранения Узбекистана Б. Х. Магзумова, директора санитарно-гигиенического института А.З.Захидова и консультанта Узминздрава профессора И.К.Мусабаева. Последний, прибывший раньше всех, известный в республике инфекционист. Он посетил с местными специалистами инфекционные больницы г. Нукуса и близлежащих районов, учел результаты, полученные противочумной лабораторией, и вынес грозный вердикт: в городе и районах эпидемия ХОЛЕРЫ! В полдень 8 августа в Нукус в срочном порядке прибыли представители Минздрава СССР – замминистра А.И.Бурназян, академики З.В.Ермольева и Н.Н.Жуков-Вережников. С последним я встретился в кабинете начальника станции, куда он вошел с обычным для него приветствием: «Салют, камарадос!», словно он не в Нукусе, а в пылающем гражданской войной Мадриде! Николай Николаевич – пожилой, высокий, худощавый, несколько сутуловатый мужчина с лицом, чем-то напоминающим А.Ф.Керенского, только в очках, с таким же седоватым «ежиком» на голове. В сером походном костюме. Действительный член Академии медицинских наук СССР. Один из «отцов-основателей» советской противочумной службы. Непререкаемый авторитет в вопросах особо опасных инфекций. Правая рука Министра здравоохранения. Главный консультант Минздрава по чуме и холере. Автор ряда разработок по их лечению и профилактике. Правда, некоторые из хорошо знающих академика поговаривали, что кое-какие «передовые идеи» он черпал из зарубежной литературы, «закрытой» для большинства советских ученых из-за «железного занавеса». При этом чаще всего как-то забывал ссылаться на первоисточники. В конце сороковых годов был пламенным пропагандистом идей «народного» академика Лысенко и борцом с «вейсманизмом-морганизмом и менделеевской генетикой – продажной девкой империализма». После низвержения Лысенко, этого идола сельскохозяйственных наук, Николай Николаевич с не меньшим пылом стал внедрять принципы той же генетики (ДНК-регуляторы, ДНК-операторы, репрессоры, структурные цистроны и др.) для оправдания своего «прокола», о котором скажу ниже. Короче, как тогда говорили, он «непоколебимо колебался вместе с колебаниями Генеральной Линии». Я столь подробно описываю ЭНЭН, как часто его именовали для краткости, потому что, волей судьбы, мне было суждено сражаться с этим Голиафом по некоторым принципиальным вопросам эпидемиологии, микробиологии, клиники, лечения и профилактики холеры. Но об этом несколько позже. А пока вернусь к прерванному повествованию.

