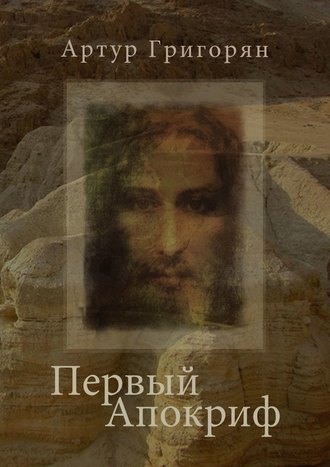
Полная версия
Первый Апокриф
Почему же всё так повернулось? Мог ли я предположить такое ещё полгода назад, когда только покинул Нацрат? Ведь я шёл сюда совсем с другими надеждами. Я же ждал, что он примирит противоречия Танаха с голосом моего сердца, укажет широкую аллею, которая приведет к Богу, к истине, а что получилось? Я вижу узкую, кривую колею, по которой не могу следовать; её не расширить, ни проложить рядом новую. А самое страшное, что уже сомневаюсь, туда ли собственно идёт эта дорога.
А может, проблема в другом? Может, меня обуяла гордыня и себялюбие? И я, вместо того чтобы учтиво слушать речи мудрых, прежде чем пытаться в своем невежестве им возразить, всё глубже погрязаю в заблуждениях? А что, если все споры с Йохананом – это всего лишь дерзость непокорного и самоуверенного неуча, не терпящего над собой авторитета старшего, умудрённого опытом учителя? Ведь столько людей, многие из которых старше и умнее меня, слушают и внимают, не прекословя! И ведь слова Йоханана основываются на Танахе – на писании, священном для каждого иудея! А что я могу противопоставить этому? В конечном итоге я же не с ним, не с Ха-Матбилем веду спор, а с Богом, который говорит его устами со страниц Танаха, с тысячелетним законом!
Словно чей-то чужой голос, испуганный и робкий, но удивительно похожий на мой собственный, вдруг начал нашёптывать: «Кто ты, Йехошуа, что позволяешь себе такую прыть? Что ты представляешь собой – сын плотника из Ха-Галиля, рофэ-недоучка и вольнодумец, что пытаешься прыгнуть выше головы? Зачем тебе все эти споры и сомнения? Тысячи лет иудеи жили по этой книге до тебя и ещё тысячи лет будут жить по ней после. Так для чего, ради какой высшей цели ты свой жалкий голос поднимаешь, усомнившись в её мудрости? Твоё дело – лечить людей, строгать столы и соблюдать Закон. Куда ты полез, в какие споры? Какой „твой Бог“, какая „истина“? Шёл бы ты, юноша, к себе в Нацрат – здоровее будешь».
Этот вкрадчивый, трусливый голос был мне противен, но особенно было неприятно осознавать его сродство с собой. Моя теневая сторона, маленький и тщедушный человечек, живущий во мне, пытался сейчас взять верх надо мной обычным – таким, каким я себя видел или хотел бы видеть. Ещё в детстве я придумал ему имя: Шуки148. При всём моём к нему омерзении он был неотделим от меня, и победить его можно было только самому, без чьей-либо помощи. Как бы я хотел, чтобы он умолк навсегда! Но с годами ко мне пришло осознание, что полностью избавиться от него не удастся. В тяжелые моменты внутренних терзаний и дилемм он поднимал голову, и я, хоть со стороны казался цельным, на самом деле зачастую раздваивался, полемизировал с самим собой; точнее, одна ипостась – как я её представлял, светлая – боролась с тёмной, с Шуки. И признаться, к собственному стыду, бывали случаи, когда Шуки брал верх. Эти минуты я не любил вспоминать: они заставляли меня краснеть перед собой; но справедливость не позволяла похоронить их в глубинах памяти.
Тихий шорох отвлёк меня от раздумий. Обернувшись, я увидел Андреаса, тихонько присевшего невдалеке и тоже смотрящего на догорающее пламя заката.
– Не помешаю, Йехошуа?
– Конечно, нет, Андреас. Садись – берег большой, места всем хватит, и ты знаешь, что тебе я всегда рад.
Мы помолчали какое-то время. Синеватые вечерние тени окутали берега Йардена. Свежий речной ветерок приятно холодил голову после дневного зноя, придавая мыслям мягкий и неторопливый ход.
– Ты знаешь, Йехошуа, – голос Андреаса дрожал от волнения, – я не сказал этого там, пока вы спорили, но сейчас хочу признаться. Мне кажется, что ты прав. Твой Господь, любящий свои чада, мне ближе, чем грозный владыка, карающий за ослушание. Я завидую тебе: ты не побоялся так спорить с Йохананом, в то время как я не осмелился даже на полслова поддержки. Но вот что я тебе скажу! Может, остальные и побоятся признаться в этом, но многим твои слова кажутся весомее и ближе к истине, чем сказанное Йохананом. Я думаю, что если бы не авторитет Ха-Матбиля, то не меньше половины наших послушников одобрило бы тебя и твои действия вслух.
– Вот как? Интересно. Спасибо тебе, Андреас, что ты делишься со мной. И ты говоришь, что моё слово нашло отклик у послушников? И даже переважило слово учителя?
– Да, Йехошуа! В том-то и дело, что многие на твоей стороне. Но авторитет учителя мешает это признать, открыто поддержать тебя. И даже я не имею столько храбрости, чтобы возразить ему, а тем более поднять, как и ты, свой голос против Писания. Это для меня звучит кощунственно, и я боюсь этих мыслей. А ты не боишься! Я завидую тебе, Йехошуа – завидую и восхищаюсь!
– Спасибо тебе ещё раз, Андреас. Ты снял у меня с груди немалый груз своими словами.
Андреас замолчал, видя мою немногословность, и я опять погрузился в свои мысли.
Что мне делать после случившегося: уйти или остаться? Если всё же уйти, то куда? Если остаться, как себя вести? Углублять ли свою колею, всё дальше отходя от Йоханана и расширяя трещину до непреодолимой пропасти, или всё же попытаться вновь сблизиться с ним, найдя точки соприкосновения?
Уходить не хотелось. Хотя я уже понимал, что когда-нибудь этого не избежать, но пока не был готов к столь радикальному шагу. У меня всё ещё больше вопросов, чем ответов на них, и я предпочёл остаться. Но, по возможности избегая прямой конфронтации с учителем, я всё же решил искать истину, руководствуясь собственным пониманием добра и зла. А дальнейших дискуссий решил не избегать, так как чувствовал, что споры с Ха-Матбилем, хоть и давались они нам обоим нелегко, позволяют мне яснее и чётче очертить свою колею, свой путь к Богу.
*****
С этого дня моё пребывание в лагере Йоханана качественно изменилось. Я словно отделил себя от него – своего учителя, тонкой канавкой, и щель эта день ото дня становилась все шире. Мы продолжали жить вместе, делили пищу и кров, всё было вроде бы по-прежнему, но появилось новое ощущение собственной независимости.
Но изменился не только я, изменился и Йоханан. У нас ещё не раз и не два были острые дискуссии, но никогда уже я не ощущал с его стороны попытки разгромить меня наголову в споре. Он скрестил со мной оружие и, поняв, что против него достойный соперник, решил впредь не искушать судьбу. Я также, со своей стороны, избегал обострения: мне не хотелось загонять его в угол и вновь испытать горький вкус победы с привкусом угрызений. Мы оба останавливались у какой-то черты, словно по взаимной договорённости, но плоды этих дискуссий с каждым днем давали о себе знать. Всё чаще я ловил заинтересованные взгляды собратьев, всё чаще к нам с Андреасом и Йехудой, продолжавшим диалоги на берегу Йардена, присоединялся тот или иной из них. А порой ради дискуссии со мной кто-то отрывался от группы слушателей Ха-Матбиля, и тогда я ловил ревнивый взгляд самого Йоханана.
Мало-помалу я окреп в этих спорах, прояснил и отшлифовал свою позицию. Мои аргументы обрели плоть; слово стало сильнее, увереннее. Справедливости ради признаюсь, что я многому научился у Йоханана – как в приёмах, позволяющих увлечь аудиторию, так и в мастерстве красноречия.
Была ещё причина, по которой ко мне стекались люди со всей округи и даже из дальних мест – это распространявшиеся из уст в уста слухи о моем таланте рофэ. Рассказы моих пациентов, одаривающие меня неземной силой исцеления, принесли плоды в виде нескончаемого потока страдальцев, ждущих чудесного излечения. Иногда мы прерывали дискуссии, чтобы оказать помощь тому или иному гостю.
Я ещё несколько раз навещал моих пациентов у габая Эзры, и вскоре мы по-настоящему сблизились с самим габаем. Он был мне в высшей степени благодарен за сына и всегда был рад видеть, радушен и хлебосолен. И даже после того как мальчик полностью излечился, швы были сняты, а Натан окончательно поправился, я продолжал по поводу и без оного заходить к ним в гости и даже оставался на ночь в той самой гостевой комнате, где был в первый раз. Вечерами мы с Эзрой и другими его гостями обсуждали вопросы, которые были темой моих споров с Йохананом и братией; и Эзра, как мне казалось, был серьёзно увлечён.
*****
Через некоторое время, месяцы спустя, тетрарх Переи, в которой мы находились, Хордус Антипа149, разведясь с набатеянкой, взял в супруги жену сводного брата Иродиаду, которая к тому же приходилась ему племянницей. Это очередное кровосмешение, хоть оно было и не первым в монаршей идумейской семье, возмутило всех правоверных иудеев. Многие в приватных разговорах, а порой и публично, осуждали этих еретиков, получивших власть над троном Давидовым.
Йоханан, который не раз уже до этого сетовал на принятие Эдома в лоно истинной религии, а также порой высказывался зло и едко в отношении династии, теперь же просто был взбешён. Он поносил в речах тетрарха, громил самого Хордуса Великого150, захватившего с помощью Рима Йерушалаим, весь его безбожный род, а по поводу самого брака разражался просто бурей проклятий.
Именно эта тема, в которой наши взгляды не сильно различались, стала той самой каплей, которая, переполнив чашу, привела в действие цепь событий, сыгравших роковую роль – как в моей судьбе, так и в судьбе самого Йоханана и братьев.
В этот день мы собрались вокруг Ха-Матбиля, слушая его проповедь, и разговор в очередной раз зашел об Антипе и его браке. Йоханан поносил их, не жалея пыла и ярости, под всеобщее одобрение:
– Это греховная семья; и они – эти язычники – сидят на троне Давидовом! Убийцы детей своих и кровосмесители, дети блудниц и сами рождены во блуде – вот кто они такие. Да и могло ли быть иначе: ведь они даже не принадлежат к колену Исраэля! Попомните мои слова: за этот грех, за обращение идумеев в истинную религию, с нас ещё не раз взыщется! Это деяние, лежащее на совести Гиркана Йоханана151, обернулось против нас самих. Наказание за отступление от закона – за то, что идумеи введены в лоно народа избранного, падёт на головы наши и потомков наших до седьмого колена!
– Позволь сказать, учитель, – подал я голос. – Я хотел уточнить один вопрос, который ты затронул, осуждая, и справедливо осуждая, кровосмешение на троне. Но вот что касаемо обращению идумеев в истинную религию. Значит ли это, что Господь наш не готов принять в лоно истины никого, кроме избранного народа Исраэля? А если истина будет раскрыта иному народу или иноплеменнику, и будет он соблюдать заветы Господни, вести жизнь праведную и захочет приобщиться к плодам, должно ли нам захлопнуть перед ним врата истины только потому, что он не из колена Авраамова, Ицхакова, Яакова?
– Да, Йехошуа, именно так и надо сделать. Обет заключен между Господом и коленом Яакова, и никто больше к обету этому отношения иметь не может. Новообращённый настолько же далёк от истинного иудея, как язычник от новообращённого.
– Но обет между Господом и народом – это одно, а почитание Господа – другое. Разве Бог не един для всех народов, и не все ли они – его чада? И если иноплеменник ведёт жизнь праведную, а иудей из колена Яакова грешит, то кто перед лицом Ашема достойнее?
– Забыл ты, Йехошуа, слова писания. А я напомню тебе книгу Эзры152 – как народ Исраэля вернулся из Бавела153 милостью Корэша, царя Параса154, и увидел их Эзра: «Так как брали они дочерей их в жёны для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами других земель; и рука главных и старших была первой в этом беззаконии». И далее, слова пророка Эзры: «Со времён отцов наших по сей день мы в большой вине; и за прегрешения наши отданы были мы, цари наши, священники наши во власть царей других стран – меча, плена, грабежа и позора, как это ныне». И далее им же сказано: «Вы совершили беззаконие: взяли вы жён иных народов, увеличив вину Исраэля. А теперь признайте вину свою перед Господом отцов ваших и исполните волю Его: отделитесь от народов страны и от жён чужеземных». Так и сейчас должно поступить с идумеянами: отделить их грешное семя от священного семени, дабы вернуть истинному народу милость перед глазами Ашема, и дабы не постигло нас наказание.
– И снова не соглашусь я ни с тобой, учитель, ни с книгой Эзры. Ашем един, и всё человечество – его дети. Все они ему дороги, независимо от колена или языка. И скорбит он о греховных поступках эллина, римлянина или идумея так же, как и иудея из колена Давидова. И радуется он, когда даже самый малый из детей его находит путь к нему и к истине. Разве станет любящий отец выделять одного сына и потомство его, лишая остальных тепла своей любви? Разве тот, кто поступит так, будет ли справедлив в наших глазах? Так можно ли Богу приписывать поступки, которые нам кажутся несправедливыми?
– Господь выделил народ Исраэля своим особым благословением. Не равняй языческие племена с избранным семенем Яакова: лишь нам уготована высшая благодать. Ты же вновь поступки Божьи судишь по меркам человеческим, Йехошуа, а мысли его тебе недоступны. То, что делает он, и есть благо. И что бы он ни сделал, должно нам, рабам его, принять со смирением, ибо он Бог.
– Возражу тебе вновь, учитель. Не потому его деяния благо, что он Бог, а потому, что он Бог, то есть высшая справедливость, он не способен на неправедное дело. Не в его божественности надо искать оправдания злому или несправедливому деянию, а напротив, кощунственно приписывать Ашему преступные или несправедливые дела. И не иудейский это Бог, не приватный Господь народа Исраэля, и обет между нами – не привилегия, недоступная иным. Господь наш един для всех языков, и всех он любит не меньше, чем нас. А обет с Исраэлем возлагает на нас, на народ Исраэля, требования выше, чем к другим племенам, ибо нам своими делами и помыслами надо быть достойными божественного избрания, на которое мы претендуем. Не избрание делает нас выше, а дела наши, которыми и должны мы возвыситься. И если другие народы найдут свой путь к истине, то не должно нам ревновать или бояться кары Господней, а следует возрадоваться, как радуется Отец небесный, принимая в лоно своё новых любящих детей.
Йоханан не стал мне возражать, хотя последнее слово, и слово весомое, осталось за мной. А между тем я ожидал отпора, был готов к борьбе. Учитель это понял. Он увидел мою готовность, силу моей позиции, осознал, что его слова и аргументы недостаточны, и просто ушёл от дискуссии. Йоханан Ха-Матбиль решил отступить с наименьшими для себя потерями, оставив меня во всеоружии на поле и фактически лишив сокрушительной победы, но заодно и обезопасив себя от столь же сокрушительного поражения. Я это почувствовал, явственно почувствовал, но это ещё полбеды. Йоханан также заметил, что я осознал свою силу и превосходство над ним. Да и остальные братья, столпившиеся вокруг, восприняли уход от борьбы Йоханана как проявление слабости, предвестник капитуляции. У меня заскребли кошки на сердце от дурных предчувствий, и они не замедлили оправдаться.
В тот же вечер, когда я, по обыкновению, предавался размышлениям на берегу, на некотором отдалении от лагеря, рядом послышались шаги. Я подумал, что это, как обычно, Андреас, Йехуда либо ещё кто из братии, и даже не повернул головы.
– Закаты здесь бесподобны, Йехошуа, – услышал я знакомый голос. – Ты неравнодушен к ним, как я заметил.
– Да, учитель, они позволяют восхищаться красотой божественного замысла, – ответил я, повернувшись к Йоханану.
Да, это был именно он. Йоханан Ха-Матбиль собственной персоной пришёл составить мне компанию, чего уже давно не случалось. Я понимал, что предстоит разговор, и разговор непростой. Он сел рядом, достав неизменные чётки.
– Тебя, наверное, удивят мои слова, Йехошуа, но ты мне нравишься. Более того, ты нравишься мне куда больше любого из нашей братии, много больше самых верных моих учеников и преданных послушников. Я вижу в тебе волю, вижу личность, достойного человека, который крепок духом и смел разумом. Никто из братьев не смеет поднять свой голос, не имеет силы возразить, даже если они что-либо не принимают. Но не ты! Не ты. Я хочу, чтобы ты знал: я отдаю должное твоему мужеству, твоему разуму и твоему упорству. И что бы между нами ни было, как бы ни сложились наши отношения, помни, что моё уважение к тебе останется непоколебимым.
– Благодарю тебя, учитель. Твои слова дорогого стоят. Ничья похвала бы не была мне так ценна, как твоя, – я не мог понять, к чему клонит Йоханан, но как бы мы ни расходились в наших взглядах, было лестно услышать подобные слова именно из его уст, и в этом я не лукавил.
– Я не сразу оценил тебя, Йехошуа. Но с каждым нашим спором всё больше понимал, что ты – достойный соперник; мне всё явственнее открывалось, что в тебе есть то, чего нет ни в одном из нашей братии. Рука Господня простёрлась над тобой. Ты целитель от Бога. Ты умён, и воля у тебя железная; упорству и страсти можно только позавидовать. Я хочу, чтобы ты стал мне союзником. Я протягиваю тебе свою руку. Вдвоём мы умножим нашу мощь, наше слово: моя страсть и твой разум – вместе мы перевернём горы! Подумай об этом, Йехошуа. Подумай над моим предложением. Встань под моё знамя, и ты будешь вторым человеком после меня. Не торопись с ответом.
Я задумался. Йоханан действительно озадачил меня, и я понимал, что от моего ответа многое зависит. Многое прежде всего для меня, хотя и для него тоже. Йоханан Ха-Матбиль, чьё имя гремит по всему Эрец-Йехуду и Ха-Галилю, по Гильаду и Декаполису, предлагает мне свою руку и зовёт меня стать одесную его. Мог ли я надеяться на это ещё десять месяцев назад, когда только покинул отцовский дом? Йоханан задел струну моего самолюбия, и весьма ощутимо.
Сам учитель ждал моего ответа, сидя рядом и неторопливо, привычным движением перебирая свои неизменные чётки.
Вторым после него… А разве есть разница – вторым ли, пятым ли, сотым ли? Что это даст мне? Ведь не места я пришел искать себе и не привилегии стать тенью йоханановой. Быть вторым при нём значит потерять себя. Ведь то, чему учит Ха-Матбиль, что он проповедует, не принимает моё сердце. Так неужто все наши споры и противоречия – это была лишь фикция, позёрство, чтобы доказать собственную значимость и получить завидную возможность стать одесную учителя? И чем больше я думал, тем яснее понимал, что этот шаг для меня неприемлем. Как бы ни льстило отношение Йоханана, но променять самого себя на сомнительную честь стать тенью Ха-Матбиля – на это я пойти не мог. Да, не стоит ни себя обманывать, ни учителя вводить в заблуждение. Эта роль не по мне.
– Позволь ответить тебе, учитель, и заранее прости, если мои слова не понравятся тебе, – наконец решившись, произнёс я. – Ты предлагаешь мне стать вторым после тебя. Не скрою, это мне очень льстит. Но подумай, что это означает для меня? Ведь не места пришел я искать и не признания, пусть даже и твоего, а себя самого. Себя я пытаюсь познать и найти в себе Бога. Могу ли я встать на твой путь и потерять его?
Йоханан не поднимал головы, словно увидел что-то занимательное у себя под ногами. И только сейчас, когда я закончил, пристально посмотрел мне в глаза. Лицо у него было усталое, разочарованное и какое-то помятое.
– Я боялся такого ответа, Йехошуа; и всё-таки я его получил. Ты не хочешь быть вторым. Ты решил стать первым. Я недооценил тебя.
Лёгкая усмешка, прозвучавшая в голосе, даже больше чем смысл сказанного заставила вспыхнуть мое лицо. Такое «прочтение» моих слов обожгло как пощёчина.
– Ты несправедлив ко мне, учитель, или неверно понял. Не лидерства я ищу, и не амбиции мной движут. Я действительно был бы рад найти в тебе человека, каждое слово которого находило бы отклик в моей душе, и именно за этим и пришёл к тебе. Не моя то вина, что не нашёл я того, что искал. Да и ничьей вины тут нет. Мы те, кем нас сотворил Господь.
Йоханан молчал; молчал и я. Лишь вечерний треск цикад да шелест листвы нарушали звенящую тишину, набухшую меж нами тяжёлыми гроздьями. Мягко постукивали чётки Йоханана, которые он машинально продолжал перебирать. Чувствовалось, что Ха-Матбилю есть что сказать, но он оттягивает это – даёт мне шанс передумать, пойти на попятную. Не дождался.
– Йехошуа, я не хотел, чтобы зашло так далеко, но ты не оставляешь мне выбора. Тесно нам двоим в одной общине: нет места двум пророкам, и двум правдам рядом не ужиться. Это моя братия, моё детище, и потому, Йехошуа, хоть видит Бог – и не хотел я этого, а может быть, и ты не хотел, но придётся тебе покинуть нас.
Набухавший месяцами гнойник лопнул. И хоть в глубине души я давно уже понимал, что нечто подобное должно было случиться, то, что оно было озвучено именно так – из уст самого Ха-Матбиля, фактически изгонявшего меня, тяжёлым пыльным мешком двинуло по затылку. Йоханан ждал моей реакции, но в наступившем вокруг вакууме я всё не мог сформулировать свою реплику. Не дождавшись от меня ответа, Йоханан поднялся.
– Я не тороплю тебя, Йехошуа, но знай, что тебе не место рядом со мной, – и с этими словами Ха-Матбиль удалился в сторону потрескивающего костра, освещавшего поляну.
Я остался один и мало-помалу, под воздействием ли прохладного речного ветра, или успокаивающего треска сверчка откуда-то справа, мысли мои, ещё недавно всполошённым табуном проносящиеся по внезапно поглупевшему мозгу, успокоились и упорядочились в относительно стройные и понятные системы.
А в чём шок-то? Почему это меня так поразило? Ну, сейчас ли, позже ли, но итог-то был неизбежен. Нам не по пути с Йохананом, и когда-нибудь я бы сам дозрел до того, чтобы покинуть его. Так неужели простое следствие из имеющего место факта наших противоречий способно так меня выбить из колеи? Йоханан это почувствовал раньше и взял на себя труд принять решение. Разве не ясно, что для его самолюбия, которое никак не назовёшь скромным, было бы куда большим ударом, если бы я удалился сам, попутно ещё не раз заставив почувствовать слабость его, Ха-Матбиля, в дискуссиях? Так что его шаг разумен и объясним. Кто знает, как бы я сам поступил, будь на его месте?
Но всё равно, несмотря на все доводы разума, душила обида – обычная обида человека, обманувшегося в своих лучших ожиданиях. Несмотря на всё нараставшие противоречия, я ещё оставлял для Йоханана возможность подняться в моих глазах на тот пьедестал учителя и наставника, на который вознёс задолго до встречи. И вот теперь поставлена точка – не мной, но не без моей помощи, и точка окончательная. Теперь наши дороги не просто разошлись – они наверное уже и не сойдутся никогда. Ни цель, ни методы, ничего больше не могло нас свести.
Но никакие переживания уже не могли бы изменить ход событий. Как говорил Саба-Давид: «Если не можешь изменить реальность, измени своё отношение к ней». Не раз мне приходилось убеждаться в мудрости этого изречения, и сейчас оно было как нельзя кстати. Придя к этому выводу, я несколько успокоился и, вздохнув, отправился собирать вещи и подумать о своих дальнейших планах.
Глава VII. Чужая беда
Меня встретили глаза Андреаса, горящие тревогой на размазанном сумерками лице. Слышал что? Или только почувствовал неладное, заметив наш с Ха-Матбилем тет-а-тет? Не говорит ни слова, лишь наблюдает, как я с напускным спокойствием перебираю инструменты, складываю их в котомку. Неизбежное объяснение, переполнив меня до краёв, никак не находит слов излиться; лишь всё сильнее теснит грудь, стучит жилкой на виске. Я всё молчу, избегая даже встречаться взглядом с Андреасом. Странное ощущение неловкости, неуместности того, что я сейчас скажу, и фальшивости услышанного в ответ сковало язык. И чем дольше длится это молчание, тем невозможней кажется нарушить его.
Странное существо – человек. Внутри он может страдать и томиться, но словно стыдится собственных чувств, играя на людях равнодушие и вымучивая из себя суровую сдержанность. Он пытается быть другим – не только и даже не столько в глазах окружающих, сколько в своих собственных, как будто этот некто с невозмутимой толстокожестью чем-то лучше обнажённых струн души. Зачем? Не знаю, но и сам бессознательно впрягаюсь в эту глупую роль, демонстрирую суррогат ложных чувств, за маску фальшивого хладнокровия прячу эмоции.
Подошел Йехуда. Я его не увидел, лишь почувствовал удвоение веса направленных на меня пристальных глаз. Так порой ощущение упёршегося в спину взгляда заставляет нас внезапно обернуться. Присутствие человека не обязательно требует визуального подтверждения: что-то меняется в среде, какая-то строго индивидуальная аура, сопровождающая каждого, позволяет с не меньшей определённостью ощутить его появление или уход. Интересно, какая аура сопровождает меня самого? Ещё хотелось бы знать: а что, это ощущение – моё постоянное свойство независимо от окружающих, или в глазах каждого я обладаю уникальной аурой, обусловленной природой самого наблюдателя? Боже, в какие дебри забрело гульливое сознание! Что за ересь я несу, вместо того чтобы поговорить с друзьями о том, что действительно меня волнует!
Наконец, подушечкой указательного оценив гладкую пупыристость головки последнего зонда и присоединив его к остальным собратьям в котомке, поворачиваюсь к друзьям и, направив взгляд куда-то мимо них, с изрядной долей самоиронии (очередное убежище для расстроенных чувств), говорю:

