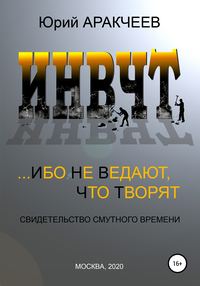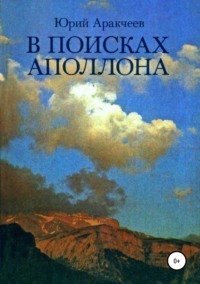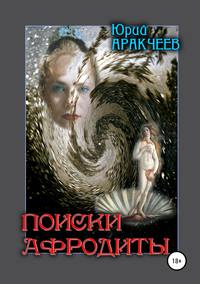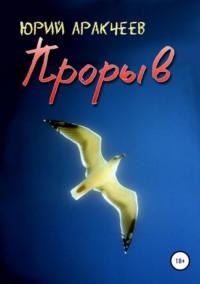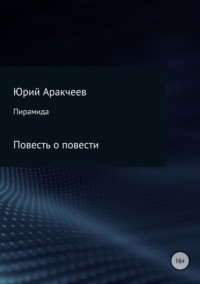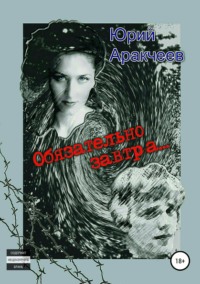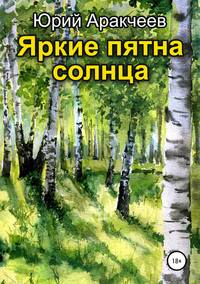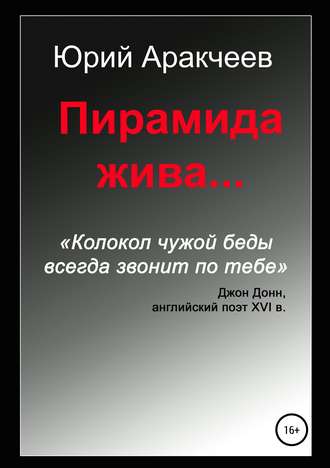 полная версия
полная версияПирамида жива…
«Едва ли не до реанимации» нормального писателя держали тогда «в молодых», кстати, не только из-за цензуры, но и потому еще, что места «в писателях» были заняты либо «преторианцами», о которых очень ярко и образно написал, в частности, Юрий Нагибин в своем «Дневнике», изданном после его смерти, либо теми, кто соответствовал кругозору и уровню правящей верхушки нашей советской Пирамиды. То есть «ограниченными». (А Юрий Нагибин был вообще «раскрученным», в отличие от меня, и – все равно! Почему? А потому что и он не хотел сдаваться «ограниченным», то есть властителям, с потрохами…). Но в те времена все же некоторым нормальным удавалось пробиться – «Советская» Пирамида, как теперь выяснилось, была вовсе не такой черной, как казалось, и не такой печально мощной, какой она определенно стала теперь, когда даже стремление к лучшему официально объявлено «мифом». В «постсоветское», ельцинское время ограниченные окончательно оккупировали все верхи, и пробиться и молодым, и старым нормальным писателям стало еще трудней. Публикуют, «раскручивают» теперь только тех, кто вполне соответствует уровню серости, которая заняла все верхние этажи – ИХ непониманию, ИХ полнейшему неведению, что творят. Так что говорить о том, что та, старая, «система» погибла, значит (по Марку Твену) «сильно преувеличивать». Она не только не погибла, уважаемый рецензент, она усовершенствовалась и окрепла! Увешанная «бабками», она издевательски смеется над нами! Неужели вы этого не видите?
И что уж говорить в этой связи о совершенно поразившем меня, просто фантастическом соображении, которое продемонстрировал автор рецензии почти в самом ее начале:
«…Все-таки «документальная повесть» – жанр недолговечный, острота и злободневность события поглощают все требования к языку, композиции, глубине спешно набросанных характеров. Вернувшись к ней спустя годы, автор имеет достаточно возможностей для скрупулезной работы в этом направлении, тем более, что здесь открываются колоссальные возможности…»
Это пишет рецензент издательства, которое густым мутным потоком выпускает книги в самом прямом смысле слова бездарные, наскоро слепленные, вообще без всяких «характеров» (даже «спешно набросанных»), абсолютно без «языка», совершенно неотличимые одна от другой, не дающие пищу ни уму, ни сердцу – истинную печатную жвачку в однотипных, ярких, «крутых» обложках! Причем, как мне известно, рецензент этот – один из самых активных рецензентов того самого издательства, главный редактор которого чуть позже открыто и честно говорила мне: «Издательство пока не имеет возможности выпускать настоящие художественные книги»… За кого же меня принял автор рецензии? Неужели он думал, что я так и проглочу эти его рассуждения о «колоссальных возможностях», которые якобы «открываются»? Он что, недооценивает мои умственные способности?
Нет, на самом деле. Если вы, читатель, действительно прочитали предыдущие части повести – вместе с письмами, которые в них включены, – можете ли вы представить себе, что ЖИВОЙ человек, прочитав лишь три первых части, касаемые публикации «Пирамиды», с моим недоумением в адрес Первого зама, редактора, «коллег» и «сослуживцев», – прочитав их, автор рецензии, а потом и сам директор издательства, были настолько ОБИЖЕНЫ, что остальное уже фактически не читали? Посчитать все, что связано в моей повести с письмами, «погруженностью в прошлое», видеть во всем множестве серьезнейших историй – Кургиняна, Массовера, Соколаускаса, Лашкина, Валентины Владимировны и других многих… – видеть в них «непрощенные личные обиды автора»? Он, рецензент, неужели серьезно? Он, что, не посмотрел даже мою рукопись дальше, начав читать, приняв на свой счет мои упреки в адрес редактора и Первого зама, инстинктивно восстав на защиту своего редакторского мундира, оскорбившись «в лучших чувствах», ОБИДЕВШИСЬ на меня настолько, что уже и не в состоянии воспринимать дальше? И приняв текст рукописи с письмами за повтор «Пирамиды»? И уже чуть ли не с самого начала вынеся свой вердикт: отвергнуть! Ведь в телеграмме главной редакторши так и сказано было: «Ваша рукопись отвергнута…»
Так кто же «во власти обиды»? Я, автор повести, в которой честно описано все, что на самом деле было, или мои «коллеги» из издательства, принявшие упреки в жестоком обращении с рукописью заранее на свой счет? И настолько они «во власти», что всю рукопись готовы отвергнуть! Всю! Вместе с остальными четырьмя частями, вместе с вопиющими письмами… Ну не чудовищная ли ПОДМЕНА? И ведь писал рецензию профессионал. 30 лет, по его же словам, работающий в этой сфере! Вот это и есть наши специалисты. Вот она, их «личная линия». Вот так выуживают они из контекста именно то, что касается их маленького, тщательно оберегаемого личного мирка… Им, очевидно, и в голову не приходит, что бывает такое «личное» понятие, как ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, и все социальные безобразия – в частности безобразие «правоохранительной системы» (как и редакционно-издательской!) начинаются именно с посягательств на это, очевидно, мало знакомое им понятие…
Да, тут-то я и вспомнил многих, многих моих рецензентов и редакторов, и рецензента той (лукаво «осужденной» им!) моей повести «Ростовская элегия», и Первого зама… И даже первых, самых первых моих «официальных» читателей – «семинаристов» в Литинституте (они тогда даже не поняли, о чем я написал! – хотя именно благодаря тем маленьким рассказам о природе и о трепете перед прелестью жизни я и прошел большой творческий конкурс при поступлении)… Чувства мои тогда были ТЕ ЖЕ САМЫЕ! Недоумение, сомнение сначала в своих способностях, постепенно переходящее в сомнение в способностях их, читателей или слушателей. Ведь я прошел Творческий конкурс, в котором было, как мне стало известно, аж 40 человек на одно место, да и сам я многократно переделывал свои рассказы прежде, чем убедился, что они – честные, искренние и свидетельствуют о главном – понимании окружающей жизни, любви к ней, понимании, в чем ее смысл для нас! Но ведь не может же быть, чтобы они… Не могут же они быть такими бесчувственными и слепыми! Я терялся в мучительном НЕДОУМЕНИИ…
И только с годами – обдумывая, сомневаясь, анализируя, рассматривая бесконечные варианты, все четче и четче стал понимать: МОГУТ! Могут они быть бесчувственными и слепыми, очень даже могут… И ОНИ НЕ УМЕЮТ ЧИТАТЬ! Не научились? Или НЕ ХОТЯТ? Не хотят думать, размышлять о жизни, делать выводы и из своего бытия, и из жизни других. Они еще хуже, чем я о них думал. В детстве я любил и уважал всех, в юности думал, что в каждом человеке – Вселенная! Но постепенно… Они не только не умеют читать – ОНИ НЕ УМЕЮТ ЖИТЬ, стал видеть я. Не научились! И не старались учиться. Они вообще не живут. Но – абсолютно уверены в своей правоте. Которая основана на том, что им сказал кто-то, кого они, в свою очередь, считают правым во всем. То есть какой-то «авторитет», запудривший им мозги. И они, ничуть не сомневаясь, выносят свой приговор, даже не считая нужным выслушать аргументы другой стороны. И действуют по инерции, считая, что живут.
И они не умеют читать. Даже когда написано прямо и четко – все равно они не в состоянии воспринять, осмыслить, сопоставить с собой. Могли бы… Но не хотят. Потому, что их приучали всегда – сначала родители, вообще «взрослые», потом школа. Сначала правы родители. И вообще «взрослые». Потом учителя. Да и потом… Прав тот, кто сильнее физически и успешен материально.
Их учили воспринимать жизнь не так, как подсказывает им собственное чувство, совесть, разум, а – как «НАДО»! Всегда, постоянно над каждым из них был какой-нибудь «начальник», перед которым они, увы, соглашались быть «дураками» («Я начальник – ты дурак»). Вот и привыкли… Всю жизнь, постоянно, изо дня в день они наступали на горло собственной песне, не верили самим себе, делали то, что «нужно», говорили, что «нужно», а потом и думать научились не сами, а – «как нужно». Не им нужно, увы. А как «принято в обществе». Как нужно начальству, хозяину, в большинстве – ограниченному. И не только ограниченному, а – агрессивному, лукавому, желающему добра не тебе, а СЕБЕ, желающему управлять тобой, использовать тебя! И большинство окончательно разучилось видеть, слышать, понимать. И даже – читать.
Это и есть – Пирамида. То есть такое устройство общества, когда всегда прав тот, кто «наверху».
И получается так, что большинство стало утрачивать понятия о том, что такое человеческое достоинство. Отсюда и все. Чего же ждать-то от тех, кто не имеет истинно собственного мнения о происходящем, а поступает так, как принято, то есть фактически как велят «верхи». Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак. Пирамида.
Они не ведают, что творят… Печально, но факт. У них хромает Личная Линия. Она у них отдана Пирамиде. Об этом в сущности обе мои повести.
И именно потому, что вторая часть моей первой повести была связана с «личной линией», она и пользовалась максимальным вниманием и одобрялась читателями. Потому что они если даже не поняли, то – почувствовали, что это – главная тема и причина всего.
Хозяин – не творец, хозяин – продавец
Да, читая рецензию из издательства, написанную человеком, который 30 лет был в этой роли, а, следовательно, как и Первый зам, служил Пирамиде, я окончательно понял, что ничего нет опаснее для Пирамиды, чем свободомыслие. И верность человека своей «личной линии». Те, кто ВИДИТ остроконечное пирамидальное устройство и понимает его гибельность для нормальных, свободных людей – самые злостные враги Пирамиды. Ведь все люди равны в своем изначальном, природном человеческом достоинстве и праве на жизнь. Мы разделяемся по половому признаку, по характеру и способностям, но – и только! Никакое «происхождение», родство с кем-то, «клановость», «звания» не должны давать человеку преимуществ при оценке деятельности его. Человеческая «избранность» от рождения противоестественна. Каждый из нас рожден женщиной, приходит гостем в этот мир и покидает его в свой срок совершенно независимо от того, к какому клану он принадлежит. И верно сказано Иисусом Христом, что «нет ни эллина, ни иудея». Все равны перед Богом, то есть перед той Высшей силой, которая создала всю жизнь на Земле. И истина – одна для всех.
И Им же, Христом, сказано, что судить человека нужно не по словам его, не по одежде и «знатности», а – ПО ПЛОДАМ его деятельности. Злостная суть Пирамиды в том и заключается, что правыми считаются не те, кто говорит истину, а те, кто «выше» в пирамидальном ранге. Пирамидальное устройство общественной власти, таким образом, делает истиной ЛОЖЬ.
Размышляя над всем этим, я понял, что есть две породы людей. Одни – честные, работящие, совестливые, понимающие, что мы все связаны, каждый в какой-то мере зависит от каждого, и если кому-то плохо, то ему нужно помочь. А обманывать и предавать других – не только нечестно, но и неразумно, потому что правильно сказано когда-то уже упомянутым поэтом XV века Джоном Донном: «Колокол чужой беды всегда звонит и по тебе». А еще есть хорошая русская поговорка: «Как аукнется – так и откликнется». То есть все мы – одна семья.
Но есть и другая пословица русская: «В семье – не без урода». Уроды – это другие люди, те, для которых абсолютно плевать на благополучие других, им нужно только собственное благополучие, ну, и благополучие СВОЕЙ семьи, которая у них ДРУГАЯ. Откуда они берутся – особый, очень важный вопрос, но факт, что к нормальным, честным, работящим, совестливым, уроды относятся абсолютно без всякого уважения, агрессивно, стараются воспользоваться ими для своего блага, да и вообще не считают их за людей. Мы для них – рабочий скот, который должен на них работать и «не возникать». Потому что они, уроды, считают себя во всем правыми изначально.
Для людей нормальных правда есть правда, она никак не связана с «общественным положением» или каким-то «званием» человека, его принадлежностью к какому-то «кругу» и так далее. А вот паразитам, ворам, властолюбцам, жаждущим быть богаче, «выше» других, распоряжаться всеми и всем, то есть попросту УРОДАМ, это не подходит, не нравится такое устройство общества. Но так как их становилось все больше и больше, потому что нормальные, совестливые люди «толерантно» прощали, терпели их, а уродам только это и нужно, в конце концов они и изобрели устройство пирамидальное, с разделением на «высших» и «низших» вне зависимости от их истинной ценности и пользы для всех, а – скорее, наоборот. Паразиты-уроды – «высшие», потому что они, якобы, сильнее, им не мешает совестливость, разговоры о справедливости, а нормальные люди – «низшие», потому что слишком много думают о всякой ерунде. Они также придумали капиталистическую систему, «рынок» и деньги, которые определяют все и, в частности, пирамидальный «этаж». А также «происхождение», «звание», «круг», причастность к «аристократии» или «истеблишменту». Что тоже определяет «этаж», независимо от истинной человеческой «высоты». Это и есть Пирамида, на самом острие которой – Царь, владыка всего, источник «высшей правды». Чуть ниже – бояре, богачи и высшие государственные чиновники. А «народ», то есть истинные труженики – внизу. «Нижние» обязательно подчиняются «верхним» по принципу «Я начальник – ты дурак». А талант и творческий потенциал человека не значат ничего, если они не сопровождаются «званием», властью и капиталом. Деньги – кровь Пирамиды и цемент, делающий ее устойчивой и нерушимой. Пирамида – вечный источник общественной лжи. С которой и боролись положительные герои моей «Пирамиды». В том числе и автор повести «Высшая мера», которую с таким трудом удалось-таки опубликовать.
И с пониманием этого разделения людей по «пирамидальному принципу» очень просто объясняется поведение Первого зама в связи с моей рукописью «Пирамиды», его попытка изменить название повести, а также как можно безжалостнее сократить именно «личную линию». Ибо она, моя «личная линия», как раз и посягала на пирамидальное устройство нашего общества. Кто я такой? Всего-навсего автор повести, судьба которой целиком зависела теперь от «начальника», Первого зама журнала. И я просто обязан ему подчиняться. Мое же название не понравилось «начальнику», какое право я имел ему возражать? Я так и не понял тогда, сознавал или не сознавал Первый зам мое посягательство на систему общественной лжи не только в отношении к Делу Клименкина, но и вообще. Или он по своей начальственной привычке, как сказала мне редактор Эмма, хотел изменить название – и изменил бы, если бы я вовремя не вмешался!
Для меня, как для автора, вопрос, естественно, был принципиальный. Как, естественно, и авторская «личная линия», ибо только осознанная уверенность в своей правоте и неподчиняемость пирамидальным законам, главный из которых «Я начальник – ты дурак», может спасти от лжи.
Это и есть, как уже сказано, главная мысль и «Высшей меры», и «Пирамиды». Но именно в связи с ней и были у меня главные расхождения с Первым замом, и именно ее никак не хотел принять не только Первый зам, но и журналист, когда вел со мной «диалог по прочтению рукописи». А центральная пресса глухо молчала именно потому, что для того, чтобы раздолбать мою повесть, нет вразумительных аргументов, а поддерживать ее нельзя потому, что она посягает на святая святых общественного устройства нашего – лживую, противоестественную Пирамиду власти одних людей над другими.
Глубокую горечь вызвала у меня рецензия редактора с тридцатилетним стажем, который выразил явное согласие с позицией Первого зама, и с позицией известного журналиста, бравшего у меня «интервью по прочтении рукописи», то есть свою безусловную преданность Пирамиде и ее дьявольскому закону. Он, автор рецензии – как Первый зам когда-то, как журналист в «интервью», – даже не задумался над тем, какова главная мысль «Пирамиды» и что я потому и уделил столько места истории ее публикации, что позиция и поведение Первого зама иллюстрировали самую суть «Пирамиды»! И то, что Первый зам ни разу не проявил уважения ко мне, автору повести, хотя честно признался редактору Эмме, что повесть моя ЕМУ, «начальнику журнала» очень нужна, рецензент посчитал вполне оправданным. Хотя ни в нашем разговоре о названии повести, ни в требовании ее сокращения Первый зам не приводил никаких убедительных аргументов, он просто настаивал на своем, не слушая аргументов моих. А после выхода «Пирамиды» он не только не поздравил меня в связи с читательским успехом, а даже не соизволил пригласить ни на одну встречу с читателями! И было такое ощущение, что его, первого заместителя главного редактора журнала, в котором была опубликована «Пирамида», вовсе не радует ее успех у читателей, а, скорее, наоборот, раздражает. Ведь благодарственные письма идут мне, а не ему. И еще я узнал от знакомого, который был на телевизионной встрече редакции журнала с читателями, что там многие очень хорошо высказывались о «Пирамиде». Но в телепередачу это не вошло. В телепередаче ни о повести, ни обо мне, ее авторе не было ни слова.
А рецензент этого как бы и не заметил и явно посетовал на мою неблагодарность Мою неуступчивость и мое честное описание происходившего рецензент посчитал вовсе не принципиальностью и заботой о деле, а – элементарным упрямством, обидой и чрезмерным самомнением. Подумаешь, автор повести! Вот ПЕРВЫЙ ЗАМ – это да! Что делал бы я со своей рукописью, если бы журнал не предоставил мне свои популярнейшие страницы?!
Что делать?
Но что же все-таки делать? Они не ведают, что творят, они не умеют думать и они не умеют читать… И они не представляют себе, что такое человеческое достоинство. И, похоже, что искренне…
Но как же быть мне теперь? Как все-таки выплыть со своими книгами на поверхность и, в частности, с этой, «Пирамидой-2»? Ведь там – письма читателей! Как помочь ЖИВЫМ людям не быть рабами, не подчиняться? Выжить и сохранить свою Личную Линию! Как все же опубликовать «Пирамиду-2» с ее вопиющими письмами, которые как раз и углубляют и расширяют тему «Пирамиды», чего рецензент с тридцатилетним стажем либо не понял, либо сделал вид, что не понял, так как стойко защищал Пирамиду? Как все же помочь людям разобраться в том, что такое на самом деле наше пирамидальное устройство общества, о котором писал еще маркиз де Кюстин? Лживое, противоестественное устройство!
Хорошенько подумав, я понял: объяснять что-либо рецензенту вполне бесполезно. Его не убедила ни «Пирамида», ни «Паутина», ни письма читателей «Пирамиды», тем более не убедят мои устные доводы – он все равно будет считать по-своему, убежденный в том, что я лишь упорно и эгоистично буду упираться в своей обиде и защищать свою «личную линию», противоречащую линии принятой и для них единственно верной – пирамидальной! Точно так же, как Первый зам когда-то. Альтернатива такая: либо отказаться совсем от общения с этим Издательством, либо, поняв, чего они все-таки хотят, попытаться сделать то, что возможно. И насколько возможно.
Консенсус…
И опять, как тогда, с «Пирамидой», я относительно успокоился и решил на этот раз попытаться не просто гордо остаться «при своих интересах», а добиться максимально возможного.
«Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить… И мужество, чтобы выдержать то, что я изменить не могу…»
Приехал в Издательство, сказал главной редакторше, что в принципе с рецензией не согласен – речь в ней идет вовсе не о моей рукописи, – но доводы рецензента считаю логичными и понимаю, что книга такого рода для их издательства не подходит. И что готов выслушать предложения о том, что можно в создавшихся обстоятельствах сделать.
Редакторша оказалась неглупой, она очень хорошо восприняла сказанное мною, обрадовалась, сказала, что да, действительно, главное то, что тема здесь не вполне соответствует обещанной, а в принципе она вовсе не возражает против того, что и «Паутина» может быть опубликована, но только не у них и не сейчас.
Придя, таким образом, к «консенсусу», мы очень быстро нашли общий язык в том, что именно я должен изменить в рукописи для того, чтобы книга стала отвечать тому, что «заявлено в договоре», и была бы все-таки опубликована этим издательством. Порадовало то, что редакторша вовсе не призывала меня к каким-нибудь «смягчениям», цензурной «причесанности». Речь шла только о верности теме, заявленной в договоре: «Тяжкий груз судебных ошибок». И об исключении моих возражений и переживаний в связи с требованиями Первого зама.
Полностью «Пирамида-2» (даже под названием «Паутина») не выйдет здесь, это ясно. Но, может быть, хотя бы частично? Пусть придется совсем исключить историю публикации рукописи, раз они воспринимают ее исключительно как мою личную обиду.
Единственное, что осложняло – сроки. У них ведь тоже план, это вполне понятно, и времени для переделки у меня оставалось мало.
Я позвонил рецензенту, вполне искренне поблагодарил за рецензию. Заметил, что в принципе с ней не согласен, но, с точки зрения заявленной темы, она логична, и, ссылаясь на договор с редакторшей, добавил, что берусь за переработку и постараюсь сделать ее как можно быстрее. Рецензент, по-моему, не ожидал и пожелал мне успеха, хотя слова «не согласен», конечно, его покоробили.
Удалось придумать хороший «сюжетный ход»… Я понял, что действительно от меня вовсе не требуется «продавать душу дьяволу», а потому работа не вызвала отвращения. Но времени было действительно мало, халтура же, естественно, исключалась.
Работу я сделал, рукопись сдал, ее приняли. С точки зрения привычной социальной «остроты», рукопись не стала мягче. Но она стала более привычной для издательства. Другой. Она была уже не столько о Пирамиде и Паутине, сколько – действительно «о судебных ошибках». Больше о следствиях, чем о причинах.
Сначала рецензент, а потом и редакторша прочитали очень быстро – в этом действительно проявилось изменение системы (но не государственной, а именно издательской, с точки зрения «кухни»). У них обоих был ряд замечаний, я практически все их учел, потому что теперь – в преломлении НОВОЙ темы – они были вполне справедливы.
Рукопись моя теперешняя называлась «Предательство – в законе». Смысл в ней был все-таки тот же самый, просто более глубоко запрятанный. А именно: предательство «специалистами» и правительством своего народа, который… Который по сути предал сам себя. Потому что – позволил. Потому что «наступал на горло собственной песне» и не признавал у себя и друг у друга «личную линию». Целиком отдавая себя во власть «начальства» и лживого «социума».
Рукопись была сдана в производство. Я совершенно искренне остался благодарным и рецензенту (который в период работы продемонстрировал истинный профессионализм), и редакторше, проявившей и вкус, и такт, и деловую хватку. Получилась другая книга, не та, что я хотел, не «Паутина» и уж, конечно, не «Пирамида-2». Но все же моя. С меньшими обобщениями, но… почти моя.
Увы, тем не менее, как оказалось, серьезно нарушены были мои отношения с главным лицом издательства, а именно – с директором. Не я, а он оказался во власти обиды! То ли ему не так объяснили, то ли он посчитал, что представляя первый вариант книги, я схалтурил, то ли не мог простить бывших в первоначальном тексте упреков в адрес редакторов и издательств, приняв их и на свой счет, но он, во-первых, стал избегать встречи со мной, а во-вторых, распорядился сократить заявленный в договоре гонорар аж на 500 долларов. Это была большая сумма для меня, а я вовсе не считал свое поведение непорядочным, тем более, что в тексте договора не было ни слова о снятии части гонорара за задержку, вполне оправданную. Тем более, что при второй нашей встрече я ведь точно сказал, о чем будет книга, и он согласился. Беда состояла лишь в том, что в первом варианте я постарался углубить и расширить тему, что его почти наверняка разозлило. Но ведь потом я не отказался же совсем, пошел навстречу! И, ко всему прочему, представил издательству заявки-аннотации на СЕМЬ новых книг (то есть на готовые мои рукописи)…
Но того, что я возразил против несправедливого, с моей точки зрения, наказания, директор мне не простил. Напал с обвинениями и на редакторшу, которая – представьте себе! – оказалась на моей стороне, так как в договоре действительно не было речи о снятии части гонорара за задержку рукописи из-за ее переделки.
Так что и в этом инциденте, с моей точки зрения, показала себя Пирамида. Он, директор, даже с точки зрения главной редакторши, был неправ, но ведь он – ДИРЕКТОР! Но я не поддался и тут. И ничуть не удивился, что никакой реакции на мои аннотации к семи рукописям не было.