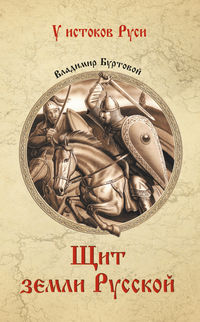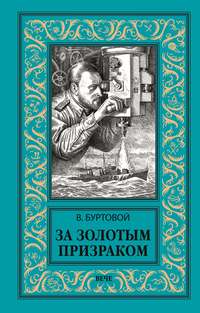Полная версия
Над Самарой звонят колокола
Аграфена вмиг залилась стыдливым румянцем и в неменьшем смятении, общипывая ромашки, ответила, не глядя в глаза Илье:
– Про твой сговор с хозяином вся деревня знает… По сердцу и ты мне, Илюша… – Охнула, прикрыла рот ладошкой и юркнула ласточкой, пропала в темных сенцах.
Охватив пальцами столбик крыльца, выходящего во внутренний двор, Илья готов был петь от счастья. Душа ликовала, и над ним так же, во всю неоглядную ширь груди своей, смеялось и сияло утыканное тысячами ярких звезд светло-багряное вечернее небо, а по просторному двору лениво бродил разомлевший от дневной жары ветер, нехотя поднимая с теплой муравы легкие куриные перышки и пух.
На Покрова, обвенчавшись, Илья свел сгорающую от смущения Аграфену в тесноватую, но своими руками построенную за лето избенку на берегу речки Боровки, и они зажили счастливо.
Зиму Илья холил хозяйских коней, чистил коровник, ездил в лес за дровами, широченной деревянной лопатой убирал снежные заносы с просторного подворья, чинил при надобности поваленные бурей плетни или поскотину вокруг Араповки. В иной день урабатывался так, что еле приносил домой на себе шапку да валенки…
А в лето вновь до осени в поле, с табуном… Так и шли год за годом, и радоваться бы ему, да Господь детишек долго не давал. Первый ребеночек помер при родах, бабка-повитуха едва Аграфенушку отходила, а после этого нечистый наворожил: четыре года детишек нет и нет. Зато с какой радостью держал на руках сияющий Илья долгожданного первенца Федюшу, названного в память погибшего в демидовских потайных застенках родителя. И целовал заплаканные глаза обессиленной Аграфены, пока бабка-повитуха костлявой синюшной рукой не вытолкала его в спину из комнаты:
– Иди, иди, голубок сизокрылый. Не тревожь бабу зряшными словами. Ей в себя прийтить надобно да дитятко покормить…
Так минуло пятнадцать долгих лет. В июле Илья пришел к барину, поклонился, напомнил о прежде писанном договоре, просил дать отпускную бумагу Аграфене.
Поседевший, покрывшийся глубокими морщинами Матвей Арапов нехотя поднялся из-за стола, спросил, упершись в столешницу:
– Уехать куда надумали?
– Да нет, барин, куда нам ехать? – пожал плечами Илья. – Обжились уж здесь, родней и соседями добрыми обзавелись. А без этого на новом месте трудно приживается.
– Ну так и работай на уговоренное прежде жалование.
– А как же Аграфена?
– От дворовой работы она теперь может отойти. Пущай в поле работает, тако же за жалование в два с полтиной. А не захочет, пущай дома сидит, теперь она вольная. Ну а коли захочешь съехать куда – бумагу справлю, – пообещал Матвей Арапов.
На том Илья и успокоился. Успокоился до тех пор, пока, будучи с барином по делам в Бузулукской крепости вчерашним днем, 25 сентября 1773 года, не прослышал о том, что под Яицким городком объявился живой государь Петр Федорович, объявился черному люду и поднимает казаков и бедноту супротив помещиков, заводчиков, супротив ненавистного сената во главе с царицей.
И всколыхнулось в душе Ильи давно, казалось бы, уснувшее, отболевшее. Вспыхнул притихший под тяжким грузом прожитых лет огонь, вспомнились и предсмертные слова деда Капитона о кровной мести Демидовым, царским драгунам…
Нынче поутру пришел он к барину и затребовал отпускных бумаг на Аграфену. Матвей Арапов, растревоженный слухами о казацком мятеже на Яике и первых пожарищах в помещичьих усадьбах, и без того не находил себе места. Надо же, войско самозванца днями взяло Илецкую крепость, того и гляди кинется на север, к Бузулуку! Гореть тогда помещичьим хоромам по просторному Заволжью.
– И куда ж ехать умыслил? – набычив седую голову, зло спросил Матвей Арапов. Закипал гневом не зря: в уме перебирал только что, на кого можно положиться из мужиков. Кому доверить оружие и оборону имения? Крепко рассчитывал на Илью, а в нем, поди ж ты, старый ромодановский бунтарь проснулся, в войско самозваного царя, не иначе, умыслил бежать. Так не бывать этому!
«Отведаешь батогов на конюшне – ласковым да смирным враз станешь!»
– О каких отпускных бумагах хлопочешь ты, холоп? – не сдержался-таки и со злостью выкрикнул он. И ногой притопнул, благо верные дворовые упреждены и стоят за дверью, готовые прийти по зову хозяина.
От неожиданности Илья даже сел на край лавки у самой двери.
– Как – холоп? Это я – твой холоп? В уме ли ты, барин? Должно, запамятовал нами писанный уговор и крестное целование перед этими вот образами? Побойся Бога, не гневи Его в такое смутное время…
– А вот так – холоп ты! Потому как писана на тебя купчая мною да помещиком Хариным из Черкасской слободы, что куплен ты мною, его, Харина, холоп, на вечные времена. И стало быть, ты в полной моей воле! Вот она, купчая-то, с печатями! – И Матвей Арапов вынул из конторки незнакомую обсургученную бумагу, потряс ею у себя перед лицом. – Уразумел, холоп? А теперь ступай в коровник, потому как от табуна я тебя отстраняю, чтоб не умыслил бежать. Сбежишь – повелю женку высечь и башкирцам продам, а сына плетьми сечь прикажу каждодневно, покудова, знаючи про то, к дому не воротишься в покорности. Ступай с глаз долой!
Илья, шатаясь будто пьяный, привстал с лавки, стиснутыми зубами скрипнул, глаза вдруг заволокло приторным до тошноты туманом. Не помня себя, шагнул к помещику, чтобы одним ударом кончить дурной сон. Только – сон ли? Но неужто в яви возможно такое?
– Так-то ты святую клятву перед Богом держишь, иуда?.. – прохрипел Илья, хватая за витую ножку тяжелый стул. Но поднять не успел – барин взвился с кресла.
– Бунтарь! Ты на хозяина руку поднял? В цепи, в кандалы холопа! Эй, люди! Ко мне! – И Матвей Арапов, торопясь, до звона в ушах ударил в ладоши.
* * *Илья тяжело, словно всплывая из холодной речной глубины к свету, очнулся от больного, терзающего душу и тело забытья. В узкое оконце-отдушину под потолком заглянула бледно-желтая ночная утешительница-луна, высветила клок соломы, голову и подогнутую под щеку руку. Сплошным рваным ожогом саднила исполосованная спина. За тонкой дощатой перегородкой фыркали и переступали копытами кони. Во дворе невесть на кого надсадно тявкала старая осипшая собака. У конюшни кто-то размеренно похаживал, изредка кашляя в рукав одежонки.
Утром в конюший пристрой впустили привезенного из соседней усадьбы села Ляховки светлоглазого и ко всему русскому, казалось, равнодушного лекаря немца Карла, коротконогого и толстенького, в клетчатых штанах, в клетчатом камзоле и при шляпе. Карл кряхтел, осматривая спину Ильи, потом раскрыл дурно пахнущую стеклянную банку и мягкой кистью, вызывая успокоительную прохладу, смазал кровавые рубцы. И при этом качал лобастой головой, на ломаном русском языке бормотал в прокуренные усы:
– Русский барин есть дикий зверь. Весьма.
С кряхтением поднялся с колен, старательно отряхнул со штанов мякину и кому-то строго наказал:
– Кущать давать шнель-шнель![3] Не чесать себя в голова, бегай быстро!
Через несколько минут дворовая баба склонилась к изголовью Ильи, с трудом напоила парным молоком – хлеб жевать, лежа на спине, он не смог. Шепнула сердобольная под большим, должно, секретом, опасаясь хозяйских подслухов:
– Не кручинься, голубок. Дома у тя все тихо. Аграфена, сердешная, убивалась всю ночь – жив ли? К хозяину под утро бегала, а наш-то полутатарин лютым зверем мечется у себя в горнице! Аграфене наказывал строго-настрого, что ежели, дескать, сбежит ее мужик, то и ей с Федюшей таких-то нещадных батогов не миновать! Лежи, лежи, голубок, все образуется: Бог не как свой барин, скорее поможет, так-то. Жаль, не по грехам тяжким к иным Господь наш милостив…
Поправлялся Илья трудно, жадно ловил обрывки слухов, то у двери кем-то сказанные, то за дощатой перегородкой, то барской стряпухой, которая приходила два раза в день подкармливать бывшего хозяйского конюха, принесенные.
– Три дни назад, пятого октября, слышь, голубок, государь-то Петр Федорович присунулся-таки, сказывают, под Оренбург-то…
– Ну, брат Илья, – шептал в выбитый сучок перегородки новый конюх Сидор, давний приятель Ильи и сводный брат Аграфены, – батюшка-государь держит губернатора в постоянных атаках, тот и носу высунуть из города не смеет.
А через малое время пришел достоверный слух, что ближние крепости Сорочинская и за нею Тоцкая, где комендантом был есаул Чулошников, без сражения сдались объявившемуся государю Петру Федоровичу.
К тому времени Илья мог уже с превеликим трудом ходить, сутуля затвердевшую от болячек спину. Сделав перед Матвеем Араповым покорный вид, Илья старательно работал по хозяйству, видя за собой постоянный догляд приставленного дворового холопа.
А однажды, придя домой, тихо сказал Аграфене, стараясь не смотреть ей в глаза – знал, что лютый Матвей Арапов и в самом деле мог исполнить свою угрозу:
– Нынче в ночь… уйдем мы с Сидором да еще три мужика к государю Петру Федоровичу. А Матвейке скажешь: пальцем тронет – по ветру с дымом пущу имение и всех домочадцев его!
Аграфена округлила враз наполнившиеся страхом и слезами глаза, охнула и, зажав рот ладошкой, опустилась на лавку, где сладко посапывал спящий Федюша.
2Поутру крепко подморозило, нежданно задул студеный, пронизывающий северян, тяжелой и неподвижной пеленой туч затянуло небо, а к ночи повалил не по-осеннему щедрый, первый в этом году снег.
Копыта коней глухо постукивали о белую землю, пятеро всадников, кутаясь в поднятые воротники полушубков, с тревогой вглядывались в запорошенную вьюгой даль: скоро ли высветятся призывные огни деревеньки отставного майора Гасвицкого?
– Точно ли казаки Петра Федоровича в ту деревеньку вошли? – подскакивая в седле, прокричал Илья, оборотясь к Сидору: товарищ днями прознал, что поблизости от них объявился конный отряд яицких казаков, которые читают мужикам окрестных сел государевы указы о вольности да охотников в его воинство верстают. Но тот не успел ответить, как Илья натянул повод, придерживая коня:
– Чу, братцы, кажись, дымом запахло!
– Слава богу, добрались! – оживился Сидор, плетью указывая, в какую сторону править от большака.
Из-за леса с оголенными кустами и деревьями явственно наносило кизячным дымом. Дорога свернула к северу, и впереди сквозь плотную, ветрами закрученную пелену снега замелькали тусклые огоньки. Вместе с дымом доносился и злобный лай: чужие в деревне, оттого и собакам неймется.
Ночных всадников приметили на белой дороге еще на выгоне, за поскотиной. Бухнул сполошный выстрел невидимого за снегом караульного, с попутным ветром прилетел суровый окрик:
– Кто такие? Куда несет вас на ночь глядя?
Илья с товарищами попридержали коней и неспешным шагом приблизились к крайнему у деревни амбару, готовые в любой миг повернуть и гнать во тьму, если вдруг навстречу высунутся поднятые сполошным выстрелом драгуны.
– Крестьяне мы! – с немалой долей риска громко прокричал в ответ Илья, жмуря глаза от встречного снега и ветра. – Соседнего помещика Матвея Арапова бывшие холопы! А едем к батюшке Петру Федоровичу на службу! – И затаился, выжидая ответа. Рядом замерли его товарищи. Кони, отфыркиваясь, тяжело переступали ногами.
– Езжайте к барскому дому! Тамо спросите есаула Маркела Опоркина! – Из-за низенького амбара вышли караульные казаки. Один, прикрывая лицо рукавицей, локтем указал в сторону небольшого шатрового дома под железной крышей.
В просторной горнице пахло мокрой овчиной, сохнущими валенками и копотью. Вокруг длинного стола собрались человек с двадцать яицких казаков, а с ними, под иконостасом, сидел сутулый, с седыми усами и бакенбардами отставной майор Гасвицкий. Он поглядывал на непрошеных гостей перепуганными, словно застывшими в одном выражении глазами. Бледное лицо будто из дешевого воска вылеплено, губы растянуты в вымученной улыбке. Гасвицкий что-то негромко говорил и рукой перед гостями взмахивал, приглашая к богато выставленным яствам.
Дворовая баба едва успевала кипятить самовар, дворецкий то и дело услужливо нырял в хозяйский погребок, опустошая небогатые запасы бывшего служаки российских государей. А хозяин с тревогой косился на незашторенное, снегом запорошенное окно и мучительно думал: увидит он божий свет хотя бы еще разок, или порешат его тут же, если кто из малочисленных мужиков, дарованных по выходе в отставку, скажет о нем худое слово…
Илья с порога, отряхнув с шапки снег, отбил поклон, громко и не робея, спросил:
– Нам бы старшего средь вас, братья-казаки. Решили мы послужить государю Петру Федоровичу.
Из-за стола, близ майора Гасвицкого, которого Илья не один раз видел в гостях у Матвея Арапова и знавал как лихого кутилу и гуляку, встал длинноногий, лет пятидесяти, изрядно уже седой казак, на ходу сглотнул кусок, который не успел толком дожевать. С дружеской улыбкой, обнажив редкие зубы, спросил, прищурив от света близко стоящей свечи зоркие глаза:
– Чьи же вы таперича будете, добры молодцы? Откудова бежали?
Илья вновь поклонился, пояснил:
– От помещика Арапова, бывшего губернатора Неплюева переводчика. Ныне в ночь, батогов не вытерпев, утекли от барина, осиновый кол ему в могилу!
Майор Гасвицкий при этих словах ужался в плечах, осел на лавке так низко, словно и на нем запечатлелось это же суровое мужицкое проклятие[4].
– Лют ваш помещик? – Маркел Опаркин враз посуровел лицом, над темно-карими глазами сдвинулись колючие брови.
– Терпелив, ежели спины не разгибаешь, а чуть о себе озаботился – велит холопам на конюшню волочить под батоги, – за всех ответил конюх Сидор. – А товарища нашего, – и глазами указал на Илью, – так и вовсе обманом обвел вокруг пальца, из вольных в холопы записал за собой. А за нежелание покориться батогами похлеще, чем бабы лен на речке, измолотил…
– Вона-а что-о! – с угрозой выдохнул есаул Опоркин. – Не нужен барам праведник, нужен угодник! Ништо, братцы, лиса придет – и курица раскудахчется! – И кулаком пристукнул о столешницу. – Садитесь, братья, покудова чаевать заедино с нами, а поутру мы того переводчика переведем поближе к Господу ответ дать за свое лихоимство! Между воротных столбов без ветру качаться заставим! Горящей головешкой прокатимся по змеиному гнезду!
Утром, отъезжая в деревню Пополутовку поднимать мужиков в войско государя Петра Федоровича, есаул Опоркин отрядил с Ильей пятерых казаков, а конюха Сидора с иными товарищами забрал с собой, наказав перед отъездом:
– Повяжите накрепко помещика да его холопей услужливых, покличьте мужиков и приезжайте в Пополутовку. Тамо будет читан указ государя-батюшки о даровании мужикам вечной воли!
Маркел Опоркин вскочил в седло, двадцать казаков, раскачивая торчащими у седел пиками, последовали за есаулом. До полусотни крестьян, вчера обстриженных на казацкий манер, с вилами, косами, а иные с дубьем, повалились в розвальни и с гиканьем понеслись за верховыми. Легкий боковой ветер сносил из-под копыт сухую снежную порошу.
– Указуй дорогу, братец, чтоб нам не припоздать на утренний чай к твоему барину! – полушутя-полусерьезно приказал старшой из казаков. – Проверим, крепки ли веревки в амбарах твоего барина. Говорил ведь ему поп: стоя на молитве, ног не расставляй – бес проскочит, беды натворит…
Не принуждая коней, давая им разогреться после ночи, стороной миновали деревеньку помещика Дементьева, поскакали далее трактом, стиснутым с обеих сторон молчаливым, настороженным лесом.
– Зайцев бы теперь погонять, братцы! – беспечно прокричал один из казаков, помоложе, в латанном на спине кафтане. – Иной серяга, поди, еще и тулупчик-то на белый поменять замешкался!
– Не до зайцев, Фролка! Настало время медведей из берлог выкуривать да на рогатину сажать! – бросил в ответ старшой. И к Илье с вопросом: – Эта, что ль, усадьба твоего хозяина? Диво, ни души не видно по всей улочке!
Дорога круто повернула вдоль изгиба реки Боровки. За крестьянскими окраинными подворьями объявился на виду двухэтажный особняк Матвея Арапова.
– Это и есть его берло… – Илья не договорил: из-за плетня ближней жилой постройки, совсем почти в упор, в пяти саженях, ударил ружейный выстрел. Старшой казак вскинул правую руку – Илье на миг показалось, что тот пытался удержать слетевшую с головы шапку, – потом резко повалился, повис, ногами оставшись в стременах. За ивовым плетнем мелькнул дымящийся ствол ружья и белая заячья шапка приказчика Савелия Паршина.
– Засада! – прокричал Илья и тут же вздыбил коня. На балконе верхнего этажа между перильцами на миг показался пестрый халат Матвея Арапова, оттуда почти кряду грохнули два торопливых выстрела, и с головы Ильи слетела простреленная мурмолка. Возьми Арапов самую малость ниже – лежать бы Илье на той зимней дороге…
– Назад! – кричал Илья казакам. – С дороги! За лес уходите, за лес!
Казаки, круто развернув коней, успели покинуть открытое место и умчались за поворот, подгоняемые новыми выстрелами из барской усадьбы. Перепуганный конь следом приволок убитого старшого.
– Эх, Ермил, Ермил, вот где тебя смертушка-то поцеловала! – Казаки бережно вынули ноги убитого из стремени, положили через седло.
– Ах ты, гад ползучий, иудин выродок! Учуял, что не миновать смерти, приказчика за сторожа на околицу выслал! – Илья, простоволосый, дрожа от лютой злости, готов был снова ринуться на усадьбу – отомстить за побитого казака.
– Охолонь, брат, – остановили его товарищи Ермила. – На открытом месте они нас всех как куропаток перестреляют. Едем к Опоркину, всей силой надобно офрунтить усадьбу, чтоб ентому гаду не выскочить живым из волосяного аркана!
Поддерживая погибшего Ермила, так и въехали в заснеженную Пополутовку – деревеньку в десяток, не более, дворов. Но народу в ней с окрестных мест собралось преизрядное число.
Есаул Маркел Опоркин, в скорби и в молчании простившись с Ермилом, повелел местному попу отпеть и похоронить государева верного казака и, не надевая шапки, сказал, обращаясь к крестьянам:
– Едем все, мужики, в деревню помещика капитана Михайлы Карамзина. Тамо назначен сход всех окрестных деревень. Туда ожидают прибытия калмыцкого воинства, кое, сказывают, взбунтовалось тако ж супротив кровожадной царицы и ее лютых собак-помещиков!..
Как искры, разносимые сильным ветром, исчезали за Волгой перепуганные помещики, едва только поблизости от их имений появлялись разъезды яицких казаков, разосланные государем Петром Федоровичем из Бердской слободы под осажденным Оренбургом. Мчались казачьи разъезды по широкому Заволжью, а следом на десятки верст по трактам сеялись страх скорой расплаты и радость в надежде на столь же скорое освобождение от барской неволи.
Многочисленный санный поезд Маркела Опоркина в близлежащих деревнях и селах встречали все новые и новые мужицкие толпы. На вопрос есаула – а где же ваш барин? – от крестьян следовал почти одинаковый сказ:
– Барин наш, отставной майор Олександр Кудрявцев, бежал в Борскую крепость.
– Барин наш, отставной прапорщик Данила Куроедов, бежал, малость вами не захваченный, с семейством в Бугуруслан.
– Барин наш, отставной капитан Петр Васильевич Ляхов, похватав пожитки, едва утек в Черкасскую крепость к сродственникам!
– И наш барин, отставной капитан Михайла Андреевич Карамзин, бежал в Симбирск с семилетним отроком своим Николкой[5] да с евойными няньками и дядьками!
Маркел Опоркин, оглядев немалое мужицкое сборище, порешил: всем идти в соседнее село Ляховка, к тамошней просторной церкви, там и читать государевы указы.
Распугивая грачей, звонили в колокол, сзывали крестьян Ляховки на литургию.
– Ну, ваши преподобия, ступайте к службе не мешкая! – Маркел Опоркин, подбадривая, слегка подтолкнул сухопарого, оробевшего попа Петра Максимова из деревни Карамзиниха, а потом и Петра Степанова, попа села Ляховка. – Поминайте государя нашего истинного Петра Федоровича с наследником, а преступную царицу храни вас Бог помянуть!
– Не робейте, святые отцы! – Кто-то из толпы весело пошутил над попами. – Бог не барин, зря не обидит: коль бабу отымет, так девку даст!
– Аль что не толково я сказал? – Опоркин глянул на попов – в глазах такая остуда затаилась, что священники тут же согласно подтвердили свою понятливость, осеняя крестными знамениями набившуюся в церковь мужицкую толпу, а по окончании литургии поминали о здравии его императорского величества громогласно и старательно:
– Да хранит Господь благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя императора Петра Федоровича, и наследника его, благоверного государя, цесаревича и великого князя Павла Петровича, и супругу его благоверную государыню, великую княгиню Наталию Алексеевну многая лета-а!
Отслужив литургию, попы потянули было с себя епитрахили, но Маркел Опоркин остановил их:
– Не все еще, святые отцы. Таперича надобно громогласно объявить указ государя Петра Федоровича к народу, что дарует он мужикам вольность на веки вечные! Тута, в церкви, все не уместились, а потому надобно вам выйти на паперть.
Послушно, из алтаря через северные двери, попы вышли с крестами на паперть. И будто по чьему-то знаку не менее пяти сот мужиков повалились на колени и обнажили головы. Петр Моисеев, так и не совладав с волнением, с дрожью в руках принял от Маркела Опоркина государев указ с печатью на шнуре, развернул. Сгоняя спазму, прокашлялся, вскинул указ на вытянутых перед собой руках.
Маркел на время остановил попа:
– Погоди малость, ваше преподобие, – и к мужикам возвысил густой голос: – О том, что указ сей получен из рук государя Петра Федоровича, пред святыми иконами готов вам, мужики, принести страшную клятву односелец из деревни капитана Михайлы Карамзина бывший крестьянин, а ныне государев вольный казак Левонтий Травкин. Он самолично был у государя-батюшки, ему и писан указ этот!
– Знаем Левонтия! – отозвались голоса из толпы. – Нами же и посылаем был вкупе с нашими односельцами государя лицезреть!
– Прикажи, атаманушка, читать тот указ государев!
Маркел Опоркин повернулся к попу Моисееву, улыбнулся, за локоть тронул.
– Читай, святой отец, без робости. Народу послужите, и народ вас не забудет. Чтобы громогласно было, да слышат все и от себя потом передадут тем, кто здесь не случился быть.
Петр Моисеев снова кашлянул, утер губы, чуть пригнул голову к правому плечу и возвысил бас:
– «Самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Сей мой имянной указ в Михайлову деревню казаку Левонтию Травкину и казакам, и всякого звания людям моим именное мое повеление.
Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до капли своей крови. Когда вы исполните мое именное повеление, и за то будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованием, и хлебным привиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью. И повеления моего сполните, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость.
А ежели вы моему указу противитца будете, то вскорости восчувствовати на себя правидный мой гнев, и власти Всевышнего Создателя нашего избегнуть не может никто, и никто вас от нашея руки защитить не может.
Одна тысяча семьсот семьдесят третий год, октября двадцать третьего дня.
Великий государь Петр Третий Всероссийский».– Аминь! – разом выговорили попы, перекрестились, снова собираясь укрыться как можно скорее в святой обители.
– Все уразумели, мужики? – громко спросил Маркел Опоркин и хотел было забрать указ у попа Петра, но кто-то из толпы выкрикнул свою просьбу:
– Уразумели, батюшка-атаман! Но для пущей памяти повели честь указ государя троекратно!
– К чему это? – не понял Маркел, отыскал взглядом седого высокого старика, который стоял неподалеку от паперти, двумя руками опершись на толстый посох. Рядом с ним боязливо жался конопатый внучек, ручонками вцепившись в дедову домотканую рубаху.
– А тогда подлинно войдет сей указ в голову, да так, что барин и езжалыми кнутами через зад не выбьет! – громко ответил старик, обнял внучка за плечи, прижал к боку, успокаивая.
Кто засмеялся, а кто и согласно закричал, поддерживая:
– Вели, пресветлый атаман, честь еще! Верно промолвил Сидор! Налетят барские слуги, хватать да сечь примутся, а из мужицких голов указу того уже не выбить будет!
Читали указ трижды. Маркел Опоркин отобрал у Моисеева указ, передал пожилому мужику в казацком кафтане, при ружье и при сабле, сказал при этом:
– Возьми, Левонтий. Нам надобно в Берду другими трактами возвращаться, в иных местах мужиков поднимать будем. А вы здесь, собрав какой скот и провиант, шлите к батюшке в Берду на пропитание воинства. Да голую чернь не забудьте, по пяти овец и по телку из барских стад наделите. Себе в помощники возьми вот Илью Арапова, мужик, вижу, толковый, на барина руки здорово чешутся. Такой не подведет. Прощевайте, братцы. Будут какие вести о движении царицыных войск – всенепременно извещайте государя! В том особая ваша служба и будет покедова в этих местах, близ Новой Московской дороги. С богом, казаки!