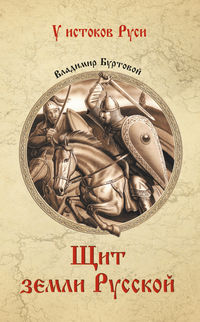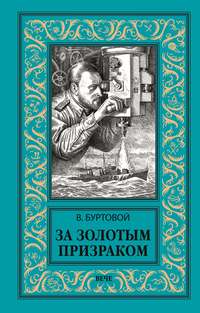Полная версия
Над Самарой звонят колокола
«Переметнулись к царю-батюшке!» – догадался Тимошка, не зная еще толком, радоваться ли ему, а может, негодовать… Остался он в Яицком городке, а что делать дальше? И как проявить себя удальцом в глазах насмешливой милой Устиньюшки, тоже еще не знал. Порешил: ежели будет война, а на войне да не быть подходящему случаю!..
Потеряв полста казаков без сражения, майор Наумов, приметив движение мятежников в сторону брода через Чаган, решил не допустить их в город и выслал к тому месту отряд старшины Андрея Витошнова…
– Братья-казаки! – Витошнов обернулся к своим казакам. Большие, чуть выпуклые глаза старшины сверкали гневом. – Нам ли теперь головы свои нести на плаху, защищая слуг царицы Екатерины? Это по ее злой милости сгибли наши братья от рук генерала Траубенберга! Послужим верой и правдой царю Петру Федоровичу! Читал я только что государев манифест к вам, казаки. Да спрятал тот манифест майор Наумов, не дозволил пред всем войском обнародовать, устрашился правдивого слова государева! Обещает царь Петр Федорович наградить нас реками и землями, морями и травами, денежным жалованием, свинцом и порохом и всею вольностью, как было нам жаловано в самой первой грамоте царя Михаила! Не летит, братцы, пчела от меду, а летит от дыму! Кто с нами до государя Петра Федоровича – пошли!
Витошнов, Маркел Опоркин с братьями, Кузьма Аксак, тот, что отдал Тимошке своего поводного коня, первыми пустились вскачь с берега реки в воду Чагана.
«А я что же мешкаю? – всполошился Тимошка. – Дядя Маркел уйдет, с кем останусь?» – стременами поддал коню в бока и погнал его вслед за казаками. На берегу осталось всего три человека, постояли недолго и повернули в сторону Яицкого городка.
До невысокого холма, на котором остановился Петр Федорович со своим воинством, домчались без происшествий. От Чагана вдогон казакам сотни Витошнова бухнула пушка – то майор Наумов запоздало срывал злость и досаду…
Робея, Тимошка вкупе с казаками старшины Витошнова слез с коня, а потом повалился, как и все вновь прибывшие, в ноги государю Петру Федоровичу.
Государь, подбоченясь левой рукой, восседал на белом коне. Одет он был по-походному, но в справный парчовый кафтан, на плечи накинут алый зипун, полосатые шаровары заправлены в сапоги козловой кожи, с желтой оторочкой по верху голенищ. На голове лихо заломлена кунья шапка с бархатным малиновым верхом и золотой кистью. Кафтан и зипун обшиты позументом.
Государь Петр Федорович приветствовал новоприбывших, привстав в широком киргизском седле, громким голосом:
– Приемлю вас, детушки, под свою державную руку, потому как я есть истинный от Господа Бога ваш анператор. И как сказывал я вам, робята, в имянном моем указе – во всех винах прощаю и жалую вас волей, крестами и бородою, денежным и хлебным жалованием и чинами. И как вы, тако же и потомки ваши в моем царстве первыя выгоды иметь будете и в службу славную при моем дворе служить определитесь! С богом, робята, встаньте, допущаю вас до державной руки к целованию.
Казаки малость помешкали и с долей робости – слыханное ли дело: сам государь средь них объявился, на службу вместо гвардии при дворе зовет! – поочередно подходили и целовали сильную, в крупных прожилках руку императора, отходили за спину Петра Федоровича и обнимались там с родными и знакомыми из тех, кто был уже в войске царя.
Тимошка заглазелся на богатое убранство сбруи государева коня; уздечка и нагрудник, стремена изукрашены серебром и сердоликом, а в середине широкой круглой луки киргизского седла вставлен сердолик величиной с куриное яйцо…
– А это, робята, чей отрок здесь средь вас? – Тимошка вздрогнул, очнулся от громкого спроса Петра Федоровича. – Каких он мест рожак? И пошто не в казацком, а в мужицком платье? Подь сюды ближе, отрок. Я ваш анператор, и не гоже меня бояться. Откель на Яике, сказывай!
Тимошка всхрабрился, проворно подошел и чмокнул опущенную руку государя: от нее пахло конским потом и сырым ремнем – плеть только что держал в руке батюшка-государь.
– Из города Самары я, ваше императорское величество, – бойко ответил Тимошка. – Хочу вписаться на государеву службу.
– Письменный ли ты, отрок? И каково прозвище носишь?
Государь – Тимошка разглядел его теперь вблизи – был долголиц, сухощав, с черной проседью в окладистой бороде. Лицо имел чистое, а на левом виске маленький шрам. Нос с горбинкой. А еще, заметил Тимошка, государь то и дело щурит левый карий глаз и часто им моргает.
– Писать и читать обучен изрядно, государь-батюшка, – ответил Тимошка. – А прозвище от крещения Рукавкин Тимошка, из купеческого сословия.
Государь вновь, словно призывая Тимошку к откровению, моргнул левым глазом.
– По обиде ли на кого ко мне явился, аль по вере в то, что я истинный анператор, ась?
Тимошка смутился, но глаза не опустил, сказал честно:
– Были сомнения, государь-батюшка, да по рассказам вашего теперь казака дяди Маркела Оприкина уверовал в истинность вашего императорского величества. А пристал вам служить да себе ратную славу добыть.
От Чагана вновь бухнули пушки, у моста закопошились солдаты. Со стороны земляного кремля через другой мост выступил еще один отряд, в основном из казаков.
– Вона что удумал полковник Симонов – атаковать нас с двух сторон. Погоди трохи, полковничек, зараз и мы изготовимся. Ванюшка! Почиталин, иде ты?
– Здесь я, ваше императорское величество! – отозвался звонкоголосый молодой казак, почти ровесник Тимошке. Он подъехал к Петру Федоровичу, сорвал с кудрявой головы каракулевый малахай, мазнул левой рукой под носом, где чуть приметно пробивалась первая юношеская поросль, отдаленный пока что намек на будущую казацкую доблесть – усы и бороду.
– Возьми его, Ванюшка, к себе. Да погодь трохи… Зараз бой проведем, а опосля я манифест тебе задиктую. Будем писать к киргиз-кайсацкому хану Нурали. Он мне большой друг, и нам его добрая подмога сгодится воевать с питерскими енералами. Теперь ступайте, да будьте недалече, кликну.
Петр Федорович зорко следил за движением второго отряда через Чаган; солдаты бережно катили три пушки по бревенчатому мосту, удерживая на телегах прыгающие зарядные ящики.
– Хитрый народ енти питерские енералы да полковники, что и баить! Однако, робята, хитрее телка они не будут! Хан Нурали, – эти слова Петр Федорович кричал громко, чтобы все казаки знали, – целовал крест мне на верность! Пошлю ему указ, и он придет мне в подмогу со своими полками!
Иван Почиталин дал знак Тимошке сесть в седло и отъехать прочь с глаз Петра Федоровича: государю надобно о баталии озаботиться, потому как и майор Наумов, вкупе со вторым отрядом, вид начал показывать весьма решительный, что готов ударить в штыки.
– Кто ведет вторую колонну? Какого звания ахвицер? – громко спросил государь, не оборачиваясь к своим сподвижникам.
Антон Витошнов вгляделся, без особого труда опознал офицера.
– Ваше императорское величество, вторую колонну вывел на сражение капитан Андрей Прохорович Крылов[1].
– Ну ин быть этому бычку на веревочке! – сурово вымолвил Петр Федорович. – Висеть ему рядышком с полковником Симоновым! Таперича слухай мою волю: как удалятся казаки от пушек, берите их, детушки, в пики да в сабли! С богом!
Андрей Овчинников, один из первых атаманов Петра Федоровича, и Андрей Витошнов отобрали добрую половину казаков при государе и начали их выстраивать для атаки отряда капитана Крылова.
– Ах, каналья! – неожиданно сорвалась с языка Петра Федоровича мужицкая брань. – Ну ин Бог ему судья: дураков и в алтаре бьют! Пущай поберегется теперь от моего праведного гнева!
Понятно было беспокойство государя: Крылов не рискнул бросить свою конницу в сабельную атаку, остановился, дал знак изготовить пушки к стрельбе бомбами по взгорку, где мелькал белый конь под богато одетым всадником.
Но тут случилось неожиданное: более половины казаков из отряда капитана Крылова, рассыпавшись просторно по полю и потому став практически неуязвимыми для пушечной стрельбы, кинулись к лагерю Петра Федоровича, делая отчаянные знаки не стрелять по ним из ружей.
Пушки от реки Чагана ударили бомбами, а Маркел Опоркин в ответ громко засмеялся:
– Отменный стрелок этот капитан – пьяной головой в овин попадает! – и замахал рукой, приветствуя казаков, вновь прибывающих под государеву державную руку. – Правь до нашего куреня, братцы-казаки!
Пушкари увеличили прицел, и бомбы рванули сухую землю вперемешку с низкорослым кустарником почти в полусотне саженей от воинства Петра Федоровича. Государь дал знак отойти от взгорка.
– С голыми руками, детушки, не сунешься супротив пушек-то, – пояснил он свое решение. – Погоди трохи, Симонов, и твой черед придет! Будь ты трижды ужом, а от смерти не ускользнешь. А покедова, робята, мне вас понапрасну терять нет резона. Видно, в Яицком городке мне не рады. Так пойдем мимо, пойдем к крепостям, где нас примут с великой радостью и колокольным звоном.
Маркел Опоркин, а рядом и его братья Тарас да Ерофей отыскали Тимошку. Старший из братьев обнял его за плечи, нагнувшись с седла, тихо сказал:
– Во, Тимоха! Без единого выстрела войско государя в сей день утроилось! Нас в отряд Витошнова отсылают, а тебе велено быть при Ванюше Почиталине, он у государя важная персона, секретарь, а стало быть, по воле Петра Федоровича указы пишет! Ну, прощевай пока, казак, и гляди веселее!
Петр Федорович отвел свое войско и встал лагерем поодаль Яицкого городка, чтобы казаки созвали круг и выбрали себе походных атаманов да чтобы поделились на боевые сотни. А ближе к вечеру, когда над степью зажглись первые часто мерцающие звезды и солнце ушло светить другим народам…
– Ванюша! Почиталин! Ты где-ка? Государь кличет с бумагами к себе. Указ писать надобно. Живо!
Андрей Афанасьевич Овчинников, выйдя из шатра Петра Федоровича, нетерпеливо постукивал плетью о голенище сапога.
Ванюшка подхватился с постеленного было кафтана – готовился прилечь головой на седло – потянул за собой и оробевшего Тимошку.
– Идем, идем! Ну как надобно будет перебелить тот указ на многие листы? Вот и поможешь. Вдвоем-то быстрее управимся да и на боковую заляжем…
В просторном шатре государя было людно, горели толстые свечи. Почиталин смело протиснулся к походному столику, на край сдвинул локтем чью-то саблю и пистоль, разложил бумагу, бережно поставил пузырек с чернилами, перья положил и поднял взгляд.
– Готово, государь-батюшка.
Петр Федорович, без верхнего зипуна, при оружии, сидя на маленьком белом стульчике, щурился на огни витых свечей, отмахивался от надоедливого ворчания избранного казаками полковника Лысова.
– Погодь ты, Митька, со своим потрошением! Да и кого особливо здеся потрошить? Вот войдем в места с барскими поместиями, тамо ужо по крестьянским многослезным жалобам и будем вершить наш державный суд да расправу… Идерка, куда ты запропастился со своей бумагой? Готов ли манифест?
– Готова, батька-осударь! – Из угла, темного и заставленного походными корзинами, вылез яицкий казак, низкорослый и плечистый, крещеный татарин Балтай Идеркеев, протянул с улыбкой Почиталину исписанный лист бумаги. – Я писала на татарском языка, тебе скажу русским словам, ты пиши, как нада, умна пиши!
Государь улыбнулся, моргнул левым глазом несколько раз кряду.
– Ишь каков думный дьяк у меня! Ништо, робята, не тушуйся! Умеючи и ведьму бьют наотмашь! Пишите указ спешно, время уже позднее, нам надобно еще его отправить…
Идеркеев водил пальцем по бумаге и диктовал Почиталину. Ванюшка старательно бубнил и писал:
«Я, ваш всемилостивейший государь, купно и всех моих подданных, и прочая, и прочая, и прочая, Петр Федорович. Сие мое имянное повеление киргис-кайсацкому Нурали-хану.
Для отнятия о состоянии моем сомнения, сего дня пришлите ко мне одного вашего сына Салтана со ста человеками, и в доказательство верности вашей, с посланным сим от нашего величества к вашему степенству с ближайшими нашими Уразом Амановым с товарищи.
Император Петр Федорович».Государь поднял глаза на Почиталина, тихо пояснил:
– Вчерашним днем схватили симоновские разъезды мною посланного к Нурали-хану казака Уразгильду. Таперича указ сей отвезет киргиз-кайсакам прибывший в наш стан ханов посланец мулла Забир. Написал, Ванюша? Ну ин славно. Таперича капни сургуча, а я печатку державную тисну. Вот и гоже. Ступай, Ванюша, до утра покедова свободен.
Почиталин откланялся государю и атаманам, рукой ухватил Тимошку – идем, дескать, отсюда, а Тимошка далее порога так и не отважился протиснуться, незваный.
– Идем спать, – негромко сказал Ванюша, а когда вышли из шатра под звездное, словно ликующее небо, добавил: – Завтра весь день в седле проерзаем. Начнется наша ратная служба государю.
– Да боже мой! – беспечно отозвался Тимошка. – Нам с тобой в поход собираться, что нищему с пожара бежать: подхватился на ноги и – будь здоров!
Почиталин рассмеялся, хлопнул новоявленного товарища по плечу, заглянул в лицо, словно бы только теперь понял: жить им рядом долго, а может, и смерть придется принять в одночасье…
– Да ты, Тимошка, веселый малый! С тобой не скучно будет.
От ближнего костра их окликнул Маркел Опоркин. Там же сидел и бородатый, с виду до дикости суровый Кузьма Аксак. Кузьма кашеварил, над огнем помешивал длинной ложкой в объемистом чугунке – пахло преющей гречневой кашей. Кузьма Аксак посунулся боком с постеленного на сухой траве рядна, уступил место молодым казакам.
Разглядывая самарца, Кузьма вдруг растянул в улыбке жесткие, заросшие усами и бородой губы, чесанул черенком ложки крупный прямой нос и спросил:
– Что же дед твой Данила к государю не пристал? Должно, заробел и в Самару укатил, да?
Тимошка обиделся за дедушку Данилу и не совсем почтительно по отношению к старшему по возрасту огрызнулся:
– Дедушка мой в преклонных уже летах, чтоб казаковать! Да и нету теперь мужиков у него в доме, окромя его самого. Тятька мой Алексей да его брат Панфил в Петербурге пребывают в государевой службе… Даст бог случая, и они, думаю, к государю преклонятся.
– Эко отчитал ты меня, брат! – засмеялся Кузьма Аксак и воткнул ложку в чугунок. – Вижу: за твоим языком не поспеешь и босиком. Ну-ну, не петушись, Тимошка. – Кузьма тяжелой рукой потрепал отрока по плечу, приблизил к нему скуластое бородатое лицо. – Я твоего деда Данилу знаю вот ужо два десятка лет, еще с его хивинского хождения. И премного ему благодарен: кабы не он, сгиб бы я в треклятых песках Шамской пустыни. В то же самое лихое для меня одночасье горькая судьбинушка свела и вот с этими братцами Опоркиными. Правда, – добавил Кузьма и вновь засмеялся, – меньшой, Тарас, с перепугу, узрев меня, из песка встающего, завопил: «Леший киргизский!» – и малость не застрелил беспромашно! Ладно Ерофей успел руку ему перехватить.
Маркел печально улыбнулся, огонь костра высветил его редко посаженные зубы. Разминая сведенные судорогой ноги, сказал:
– Да-a, брат Кузьма, воистину времечко каленым ядром над нашими головами прогудело… И не думали, не гадали мы, в Хиве сидючи, что придет час послужить самолично царю-батюшке да за народ бедный, быть может, головы положить… Хотя тебе это и не впервой, бунтовал уже против своего заводчика Никиты Демидова под Калугой. Даст бог, дойдем до твоего села Ромоданова, позрим, каково там житье-бытье у приписных мужиков…
Тимошка отвернул лицо от горького дыма, увидел поодаль цепь дозорных костров вокруг походного стана. Еще дальше едва угадывалась темная пойма реки Яика и еле светились редкие огни затаившегося ночного Яицкого городка. А еще дальше на север, где-то в сплошной тьме, пролег тракт на Самару.
«Дедушка, поди, теперь убивается моим проступком… Зато я близ Устиньюшки останусь да около государя. Ну, ежели службу какую задаст иль в сражении чем ни то потрафить выпадет счастливый случай, паду батюшке-государю в ноги, дозволения жениться на Устиньюшке испрошу. Думаю, не откажет. Вот только бы не сробеть, когда драться выпадет час…» – Лапнул себя по бокам, а при нем и кухонного ножа не оказалось!
Маркел Опоркин, заметив, как Тимошка ощупывает себя, полюбопытствовал:
– Что загрустил, Тимоша? Негоже это, брат! Гибали мы вязовую дугу, согнем и ветловую!
– Не снаряжен я для государевой службы…
– Не велика печаль! – тут же заверил его старший Опоркин. – Завтра поутру приоденем тебя в казацкую обнову. И пику хвостатую да саблю острую дадим. А там, глядишь, и пистоль с ружьем раздобудем. Негоже тебе в таком-то купеческом обличье средь военного лагеря проживать, еще примут за подлащика да стрельнут спьяну…
Тимошка с благодарностью пожал дяде Маркелу широкую руку, а отужинав, улегся спать на рядне близ костра с радостными мыслями о возможной скорой встрече с Устиньюшкой Кузнецовой. И печалился одновременно, что доставил столько огорчений любимому деду Даниле.
4От Яицкого городка успели отъехать версты три-четыре, не более, когда Данила Рукавкин резко остановил коней, спрыгнул с воза.
– Герасим! – крикнул он старого друга-помощника. – Дале поезжай один! И жди меня с возами на Иргизском умете. – Данила поспешно отвязал пристяжную соловую кобылу, попросил Герасима: – Помоги седло надеть.
Рыжебородый Герасим, прихрамывая, обошел воз, снял с задка седло, перекинул левым стременем к Даниле. Затянул ремни, проверил – надежно ли. Осмелился спросить, безбожно шепелявя:
– Вернешьша, Данила, в Яишкий городок?
– Надобно поискать Тимошу. Не сложил бы голову неразумную: дитя ведь малосмышленое для жизни такой суматошной, даром что в плечах добрый молодец. Только ты, Герасим, о том никому ни слова. Иначе изловят потом Тимошу, запытают до смерти за измену матушке-государыне.
– О том и прошить не надобно, Данила, не первый год жнаешь меня. Жа товары не бешпокойша – на тюках шпать буду, а уберегу.
– Возьми на прокорм себе и коням. – Данила протянул кошель с серебром. – Уметчику Перфилу скажешь, что Тимоша приболел, а я при нем засиделся. Товары же отослал с тобой ради бережения, да не пограбили бы мятежники.
Герасим сказал, что он все уразумел, привязал задних коней поводьями к переднему возу, положил Данилово ружье себе на колени и, не оглядываясь, погнал коней вслед за уехавшими на добрую версту вперед самарцами.
Данила легко, в свои шестьдесят пять лет, влез в седло и тронул соловую кобылу под бока стременами.
В Яицкий городок въехал с северной стороны под пушечную пальбу за рекой Наганом: это майор Наумов, озлясь на измену казаков, повелел стрелять бомбами в скопище вокруг новоявленного императора или самозванца Емельяна Пугачева – о том он и сам толком не мог себе сказать.
Хозяин постоялого двора, приняв лошадь, отвел ее в конюшню. Потом вышел во двор, прислушался к пальбе, горестно покачал головой.
– Во, сошлись два воителя – один невесть откуда взялся, другой свой, доморощенный. Покатятся теперь по степи казацкие головушки наобгонки с перекати-полем. Воистину, дурак с дураком съедутся, – инда лошади сдуреют! Ну чего людям мирно не живется, а? – И неожиданно спросил: – Завтракать будешь, Данила?
– До еды ли, Поликарп! Надежно ли в городе? Не шалит ли здешняя беднота?
– В кремле Симонов сидит весьма крепко. С ним солдаты и казаки старшинской стороны с Мартемьяном Михайловичем Бородиным. А войсковой стороны казаки либо уже переметнулись к самозванцу, либо здесь, в городе, ждут удобного часу… А где же товары твои, Данила?
– Укрыл я товар, – односложно ответил Данила. – Вот утихнет баталия, тогда и открою лавку. А пока не до торгов.
– И то, – согласился Поликарп. Перекрестился – за рекой снова пушки: бух-бух-бух! – Будь спокоен, за кобылкой догляжу. А обед на тебя сготовить аль как?
– Сготовь попозже. Пойду на кручу, гляну на новоявленного из степи императора…
– Блажная собака и на владыку лает, – снова осерчал на зачинателя смуты хозяин постоялого двора. – Воистину, новым Мамаем пройдет сей самозванец по Руси… А нам с тобой от этой смуты одни убытки. Так я на обед поболе накажу хозяйке для тебя, Данила, готовить. Уговорились?
Данила кивнул головой, горько усмехнулся. «Ему про дело, а он про козу белу! Тут всей России потрясение начинается, а ему как бы обеденные копейки не упустить. Эх, люди, люди», – огорчился Данила, покинул постоялый двор и пыльной улицей, мимо дома Кузнецовых – пусто на подворье, даже уличные ставни закрыты, – прошел на берег Чагана.
– Ишь ты! Чисто копошливое воробьё стреху облепили, – удивился Данила, заметив, что едва ли не все ребятишки, а то и отроки – да и иные отчаянные девицы – густо обсели причаганский берег, страстно, с криками и оханьем, переживая за сражение, которое происходило по ту сторону реки.
Неподалеку от Данилы, за кустами волчьей ягоды, взвизгивала от отчаяния стайка девиц, и среди них Устинья Кузнецова. Молоденькая казачка закусила в белых зубах конец платка и вздрагивала молча, когда черным дымом бухали пушки.
– Не страшись, Устинья, – негромко обмолвился Данила. – Бомбы, к счастью, не в город летят, а вон в тех удалых молодцев.
Устинья живо обернулась на его голос, вгляделась, узнала купца и в удивлении дернула черной бровью.
– Ныне поутру и мой внук Тимоша сбежал к тем удальцам, себе славы добывать, – так же негромко добавил Данила, перекрестился. Перекрестилась и казачка. Ответить не успела – подруги подхватились с места и побежали к мосту, встречать возвращающихся казаков.
Данила успел заметить, как справа от брода ушла на юг, к самозванцу, сильная команда яицких казаков, потом видел уход мятежного воинства от городка, видел бесславный возврат в земляной кремль майора Наумова и капитана Крылова. И под тревожный набат колокола каменного собора безуспешно пытался уснуть с думой о завтрашнем дне и о новом приступе к городу назвавшегося царем Петра Федоровича.
Но ни на завтра, ни через день войско самозваного царя под Яицким городком не появлялось, зато пришли вести, что форпосты в сторону Оренбурга – Гниловский, Генварцевский, Кирсановский и Иртецкий – сдались самозванцу без всякого сражения, а казаки с пушками все до единого влились в мятежное воинство, изрядно усилив его таким образом.
Данила сокрушался, сидя на постоялом дворе у Поликарпа, не находил себе места в притихшем Яицком городке. Видел, как к Симонову прибегали из Оренбурга курьеры через киргиз-кайсацкую сторону, а с расспросами лезть остерегался – еще пристанут с допросом, не тайный ли он от злодея доглядчик?
Где же теперь искать Тимошу? Куда улетел мой соколик неоперившийся вслед за матерым орлом? Сдюжит ли такой поход? Уцелеет ли в постоянных баталиях, в погоне за славою? Ох, горе, горе мне, старому! Что скажу Алексею, коль, не приведи господь, сгибнет Тимоша! Да и себя до скончания века не прощу, не отмолить греха тяжкого…»
Острая боль рвала, будто голодный волк загнанного зайца, изрядно поношенное жизнью сердце, а уши чутко вслушивались в осеннюю тишину степи: не громыхнут ли пушки с востока, не возвращается ли самозваный государь со своим усилившимся воинством для взятия Яицкого городка? Тогда-то и можно будет перейти на ту сторону и поискать Тимошу…
Да и самозванец ли он, сей удачливый предводитель? На кукушкиных яйцах не высидишь цыплят – а и здесь разве не так? А ну как и в самом деле объявился спасшийся чудом государь Петр Федорович? Мало ли что было в царских покоях? И кто из простого люда был при том свидетель? Всякое могли потом в указе измыслить… Вот и ломай теперь вспухшую от думы голову…»
На третье утро Данила вывел с постоялого двора свою кобылу, забил приседельную сумку харчами и торопливо на свой страх и риск погнался вслед ушедшему на восток мятежному воинству.
«Все едино, – отчаялся Данила, выехав на пустынный Оренбургский тракт, – голову за пазушкой не схоронить, коль такое дело заварилось в наших краях! Как зайца барабанным боем не выманить из лесу, так и мне, сидя дома, Тимошу не вызволить из губительной круговерти!»
* * *В Илецкий городок Данила въехал уже после обеда, когда строевые казаки в числе трехсот человек при двенадцати пушках да вместе с ними местные жители преподнесли самозваному Петру Федоровичу хлеб-соль, при развернутых знаменах встретив его у раскрытых ворот.
У этих же ворот два немолодых казака остановили Данилу Рукавкина. Один схватил кобылу за узду, сразу же прицениваясь бывалым глазом к седлу и сбруе. Другой, наложив руку на пистоль, устрашая купца, задергал усищами.
– Откель едешь и куды? И какое у тебя дело в войске государя нашего? Не доглядчик ли губернаторов? Ну, сказывай!
Ах ты, аршин заморский! Ах, лиходей без тельного креста на шее! Уже и к лошади моей приценяется без спросу – продам ли?» – ругнулся про себя Данила, не сробел, столь же сурово ответил, глядя с седла в колючие глаза казака:
– Самарский купец я, прозван Данилой Рукавкиным. А в вашем войске, – он не назвал предводителя ни царем Петром, ни самозванцем, – ищу отрока, внука своего Тимошу. Думаю, он где-то подле моих давних знакомцев, яицких казаков Маркела Опоркина с братьями. Покличьте их, коль нужда есть опознать мою личность.