
Полная версия
Цвет алый
От меня ушел муж.
Вчера его похоронили.
Владилен спал очень спокойно. При моем невыдержанном характере я могла растолкать его, даже если он громко дышал, тем самым мешая мне уснуть, но Влад редко доставлял мне подобные беспокойства. Я часто просыпалась и смотрела на него в темноте, разглядывая морщинки на лице – скорее мимические, чем возрастные, – и старалась впитать в себя как можно больше его. Звучит странно, наверное, но его отсутствие причиняло мне почти физическую боль, и я, словно вампир, заучивала каждый его взгляд, жест, поворот головы, манеру улыбаться – иронично и немного насмешливо. Я помнила наизусть все наши встречи, все его слова, сказанные в мой адрес, по памяти могла воссоздать даже его запах. Да что и говорить, я была влюблена безумно. Влад был для меня большим, чем я могла это осознать.
Я переставила будильник на полчаса раньше и снова легла, машинально обняв Влада за шею.
Обстоятельства нашего знакомства никогда не казались мне тривиальными. Я собирала материал по вопросам финансирования НИИ в российской глубинке, когда в одной из служебных командировок попала в лабораторию термодинамических процессов, возглавляемую давним моим интернетовским знакомым. Пал Саныч, назовем его так, регулярно снабжал меня парочкой неприлично скандальных материалов, которые, при необходимости, раздувались до вполне приличного журналистского расследования. Ну и, как следствие, довольно внушительного заработка. Это ведь только у Чехова «Краткость – сестра таланта», у нас же она – враг гонорара. И вот, в пылу моего интервью с Пал Санычем, длившегося уже более трех часов, на моем диктофоне села батарейка. Пришлось справляться старыми бабушкиными методами, а именно ручкой и блокнотиком, с которыми я никогда не расставалась, мало ли что… Однако когда я оторвалась от окуляров, чтобы наконец записать выводы
Пал Саныча о роли энтропии во втором законе термодинамике, ручка моя, пардон, чудесным образом дематериализовалась. То есть, попросту говоря, в поле моего зрения находилось все что угодно, но только не жизненно необходимая мне и моему непогашенному кредиту пластмассовая штучка. Естественно, я оторвалась на ближайшем сотруднике Пал Саныча, который настраивал генератор магнитных полей и минуты две смотрел на меня, просто улыбаясь и не говоря ни слова. Потом вынул из нагрудного халата обыкновенную авторучку и так же молча протянул ее мне. Разумеется, мне стало неловко от такого проявления моей бестактности, и по окончании интервью я пригласила Владилена на чашечку кофе и пару бубликов в околоинститутское кафе, гордо именуемое комнатой психологической разгрузки. «Чашечка кофе» плавно переросла в совместный завтрак и жуткий нагоняй от шеф-редактора за безбожно затянутый материал.
Следующий Новый год мы встречали вместе в моей московской квартире.
Да уж, радости от этого пробуждения я не испытывала. Более того, с мазохистским удовольствием натянув гетры и запахнувшись в полы розового махрового халата, я побрела на кухню ставить кофе. Владилен абсолютно не признавал растворимые разновидности этого напитка, и мне приходилось вставать на пятнадцать минут раньше, чтобы к его пробуждению кофе был уже готов. Это была традиция, и за все три года нашего брака я еще ни разу ее не нарушила.
Привычку пить настоящий молотый кофе Владилен привил мне еще в период ни к чему не обязывающего знакомства. Я наизусть выучила все сорта, которые он любил, и, как одержимая, кидалась на все кофейные новинки, появляющиеся в супермаркетах и магазинчиках на пути моей погони за очередными строчками в номер. Нашим любимым местом в городе, где мы обычно встречались по вечерам, была маленькая кофейня «Мадлен», ютившаяся как раз за углом по улице, где располагалось трехэтажное здание моей редакции. Впрочем, кажущаяся незначительность «Мадлен» была обманчивой – народ собирался здесь исключительно избирательный и, в основном, творческий. В общем, половину завсегдатаев я знала, а с половиной знакомилась позднее ввиду специфики работы, просто обязывающей выискивать очередных героев для инициированных сенсаций. Владу же кофейня нравилась за исключительно простой интерьер и на самом деле вкусный капуччино. Как раз такой, какой я готовила для него каждое утро.
– Я не слышал, как ты вчера легла, Камил. А я сам чертил до часу, – спокойно заметил Владилен, выкладывая нарезанные ломтики сыра на хрустальную подставку. – Долго сидела?
Надо же, даже время засекает. Физик, что тут поделаешь.
– Нет, минут сорок, наверное. Сам знаешь, когда вдохновение нападет, от него не отобьешься, – отшутилась я.
На самом же деле вдохновением и не пахло, и я никак не могла додумать название статьи для завтрашнего номера. Сроки не просто поджимали, а буквально верещали над ухом эсэмэсками от шефа, грозившегося снять премиальные за срочность материала. Он опаздывал уже на двое суток, что, в масштабе ежедневника, было абсолютно недопустимым.
– … тебя устроит? – случайно умудрилась поймать конец фразы Влада.
– Прости? – дернулась я и едва не пролила кофе.
– Я говорил тебе, соня, что заеду за тобой в обед, будь готова к двенадцати.
– Я постараюсь, – вздохнула я. – Очень. Сам же знаешь, у меня статья горит. Надо в край ее доделать. И двух бабулек сегодня снять. Раньше часу никак не управлюсь.
– Хорошо, – скептически хмыкнув, отозвался Влад. – Ты позвони, как освободишься, я приеду.
Он накинул черное полупальто и поцеловал меня в макушку.
– Я убежал, Камил, пора. Удачи, сонц.
Я помахала ему рукой, допивая кофе, и услышала, как в прихожей щелкнул замок. Ушел. Сейчас бы обратно в кровать… Я зашла в спальню и вытащила из шифоньера обтягивающий серый джемпер – сегодня тепло, вполне можно обойтись им и плащом. Вот только юбку бы еще подобрать к нему… Я подошла к зеркалу как была, в джемпере и колготках, прикидывая черную кожаную юбку, как вдруг что-то меня стукнуло. Так же, в том же виде я сидела в прихожей и плакала, потому что мой муж умер. Авария. Сочувствующие глаза мамы и разлитый по стенам «Homme Egoist». Я вспомнила. Не может быть. Это просто не может произойти с Владом.
Всю неделю меня не отпускало навязчивое чувство дежавю. Я словно наяву видела детали похорон, свое серое лицо с нулевым – выплаканным – макияжем, неискренние дежурные соболезнования проигрышем на фоне ритмичного постукивания в висках «нет… его нет…». Странность видений заключалась еще и в том, что они были отрывочными – настоящее вперемешку с будущим, причем настоящее именно мое, реальное, происходящее. Дежавю не было для меня чем-то экстраординарным, оно случалось у меня раза два-три в месяц. Потом синдром дереализации стушевывался, выскакивая, как чертик из коробочки, именно тогда, когда я меньше всего ожидала его повторения, – пожалуй, наиболее точное слово для обозначения этого феномена. Случались у меня и двойные дежавю; в таких случаях я точно помнила или знала, что переживала ощущаемое дважды. Слишком сильно я не заморачивалась по этому поводу; способности к дежавю передавались у нас в семье по женской линии и были вполне нормальным явлением. Уже гораздо позже, во время учебы в институте, я прочитала заключения одного психотерапевта о том, что дежавю – это серьезное отклонение в работе головного мозга, потенциально вызывающее развитие шизофрении. Дисфункция синхронной обработки информации правым и левым полушариями приводила, по мнению врача, к некорректному воспроизведению уже записанных данных, что, в свою очередь, и обозначалось термином дежавю. Согласно теории дуализма существовал и синдром жамевю – ощущение никогда не виденного, ведь если можно вспомнить прошлое, то, при наличии определенных усилий, можно считать информационное поле планеты и вспомнить… будущее?
Дежавю толковалось неоднозначно. Это могло быть признаком закономерности и правильности действий либо своего рода предупреждением о грядущем. Одно из объяснений, которое я услышала, еще будучи школьницей, гласило, что, когда мы очень стараемся забыть какой-либо промежуток времени (день, к примеру), мы тратим очень много энергии, и даже если нам это и удается, некоторые моменты непроизвольно всплывают в памяти. Это неподконтрольное узнавание себя в аналогичных ситуациях. Лично я была склонна воспринимать дежавю как память прошлых жизней и благополучно забывала о них сразу по их истечении. Но только до тех пор, пока дежавю не случилось с Владом.
И я отчаянно старалась прокрутить события назад, сложить стекляшки калейдоскопа вместе и вспомнить обстоятельства, предшествующие его гибели.
Разумеется, Владилен ничего не знал о причинах моей рассеянности. Он списывал это на загруженность работой, мой уход «в себя», когда я писала, и даже если я и рассказала бы ему о мучавших меня страхах, он бы просто не воспринял это всерьез. В противоположность мне Влад списывал все причинно-следственные явления только на события точного характера, а к моим увлечениям вроде составления психоматриц (основы нумерологического анализа) относился как к легкой забаве. Хотя и не мешал мне этим заниматься. Единственно, как бы отреагировал Влад, – он бы настоял на срочном отпуске и отъезде куда-нибудь в теплое местечко, чтобы теплый морской воздух выветрил мрачные мысли, которыми я до ненужности забивала свою «очаровательную головку». Наш брак был из разряда тех, что называют благополучными, хотя ссоры временами случались. Пару раз мы были близки к тому, чтобы разъехаться по разным квартирам, – слишком сложно нам было уживаться с такими разными характерами, тем более с настоящими скорпионьими привычками Влада. Это ведь только в физике противоположности притягиваются, а для совместной жизни нужно даже большее, чем банальное совпадение характеров, но по какой-то непостижимой причине мы оставались вместе. «Судьба, наверное», – размышляла я, а Влад, как обычно, недослушав, легонько начинал покусывать меня за мочку уха, и у меня пропадало всякое желание разговаривать с ним на эту тему. Да и разговаривать вообще.
Потому что одной рукой он придерживал меня за талию, а другой пытался стянуть с меня свитер. Этим и заканчивались наши ссоры. Сны и короткие образы, вспыхивающие в моем сознании, неумолимо превращали все происходящее в сюрреалистичные картинки. Бред. Я бы тоже так подумала, если бы это не происходило со мной. Вместе с тем мне стало до асфиксии не хватать Влада, я боролась с желанием позвонить ему и убедиться в том, что он еще… рядом. Так сильно любить нельзя, как-то сказала мне мама, самое дорогое неизбежно отнимают, если его выделять над всем остальным. Но тут была не просто банальная привязанность. Я чуть ли не в буквальном смысле сходила с ума, пытаясь понять причины дежавю, не отпускавшего меня так долго, – минуты не шли ни в какое сравнение с часами, когда я видела Влада с погребальной лентой на голове, а на настенном календарике красными кружочками были обведены две даты с примечаниями «9» и «40». Я сидела перед зеркалом, заплаканная и неодетая, будто в вате, и физически ощущала, как мне не хватает присутствия Влада, его запаха, уюта его объятий, чувства покоя и безопасности, которое окутывало меня, когда он был рядом… Я бы, не задумываясь, оказалась на его месте, поменялась бы с ним ролями, но чужую судьбу не себя не примеришь, даже если это судьба самого дорогого человека. Антидепрессанты не помогали, а обращаться к врачу я не хотела и боялась. Событийность дежавю развертывалась по отдельным кадрам. В них появились незнакомые люди.
Я вспомнила. Все случилось в «Мадлен».
Влад ждал меня уже около получаса на стоянке возле редакции. В здании оставались только дежурные редактора и ответсекретари; все остальные уже разошлись по домам. Я дописывала срочный материал о городских спортсменах, несших олимпийский огонь, – интервью было эксклюзивным и должно было выйти в завтрашнем номере минимум на сутки раньше до того, как аналогичные статьи появятся в других изданиях. Поэтому последние часы были особенно дороги – нужно было успеть до редактирования сверстанного макета газеты, и у меня совершенно вылетело из головы, что мы с Владом договорились поужинать в «Мадлен» после работы. Я вспомнила об этом, когда до встречи оставалось десять минут, и я элементарно не укладывалась в сроки, ни чтобы добежать до кофейни, ни, уж тем более, доработать статью. Вот поэтому Влад и ждал меня внизу.
С облегчением кинув по сетке готовый материал верстальщикам, я наспех накинула плащ и, даже не застегнув его, побежала вниз по широкой лестнице, цепляясь за мраморные шары на перилах. Обычно я всегда так делала, но сейчас почему-то возникло ощущение повторности происходящего. Я нагнулась поправить молнию на сапоге и вдруг… Поворот за угол… Неоновые вывески «Мадлен»… Эксцентричного вида подросток на массивном «Харлее», с размаху вписывающийся в правую переднюю дверь нашей машины… Тоненькая струйка крови на моем джемпере… Влад, насмешливо улыбающийся разбитыми губами… И я точно знаю, что больше он так улыбаться не будет…
Я каблуком соскользнула со ступеньки, и последнее, что мелькнуло перед моими глазами – испуганное лицо пожилой вахтерши, кричащей что-то неразборчивое.
Никогда бы не подумала, что Влад может плакать. Или краснота его глаз объяснялась хроническим недосыпанием – он не спал несколько ночей, пока меня не перевели из реанимации в палату, где мне предстояло пролежать еще несколько недель после серьезной операции на голову. Сотрясение, которое я получила, отразилось не только на мне (мои чудесные локоны сбрили для проведения трепанации черепа), но и на Владе – с какого-то чуда он вдруг стал увлекаться эзотерической литературой, немного сместив акценты с техники на мистику. Я же абсолютно утратила способность к дежавю. Чем это объяснить – нет ни малейших догадок. Может быть, операция на мозг так повлияла, а может, я и так видела достаточно и большее мне было просто не нужно. Как бы то ни было, но в тот вечер, двадцать пятого октября девяносто восьмого года, около кофейни «Мадлен» действительно произошла авария. Не справившись с управлением, девятнадцатилетний студент музыкального училища врезался на мотоцикле в угол здания. Что удивительно, парня выкинуло на обочину, а мотоцикл протащило еще пару метров будто какой-то неведомой силой. Больше пострадавших в инциденте не было, у парнишки зажила сломанная рука, и он снова сел за отремонтированный мотоцикл. Памятуя поговорку «Все хорошо, что хорошо кончается», я даже рассказала Владу о своих дежавю, причем его реакция сильно меня удивила – он ничего не сказал, а только крепко обнял меня и серьезно произнес: «Никогда больше так не делай». Я так и не поняла, что он хотел этим сказать. Все действительно закончилось вроде бы хорошо.
Вот только почему у меня все чаще появляется ощущение, что я не живу своей собственной жизнью, а будто вижу ее со стороны? Откуда-то сверху?
Олькины сказки
Черный светБыло темно и колюче в сто пятом круге.Падали звезды, любовью взрывались вены.Это ничуть не похоже на дантовы муки.Много сильнее. И в это нельзя не верить.Было темно. И не праздно горели лампы.Отсветы желчи плевали мне прямо в душу.Я угадать пыталась в бокале с «Фантой»Судьбы воды до ее превращенья в сушу.Было темно. Я со страхом ждала рассвета.Часа, который единство на два разлепит.Я рисовала черным полоски света.Ты уходил, нули превращая в цепи.Было темно. На земле остывали камни.Розы за ночь покрывались налетом снега.Я повторяла заученной старой мантройИмя твое. И любовь уходила в небыль.ОблакаА в Германии быстро по небу бегут облака…Как же раньше я этого – веришь? – могла не заметить…Все проходит. И руку другая сжимает рука,И за осень разорванной сказкой мы вряд ли в ответе.Я все время смотрю на деревья – там бледная нить.Перечеркнуто небо несчетным числом самолетов.Это так по-людски – не суметь ничего сохранитьИ поставить на завтра двадцатую точку отсчета.За стеклом электрички альпийские горы и снег,И, в пальто из мохера укутавшись, медленно стыну.Опускаю глаза. Отпускаю – тебя уже нет —Я любовь мою в дым облаков, пробегающих мимо.Летодевочка – кукланемного ветер немного кременьребенок ли взрослыйвсе одинаковылица на утров чужой постелиа кто-то просит о тенино солнце жарити каждый хочет быть с темикто любиткто – понимаети что ценнее —пить ли не питьблагостьпросить смело менятьсменусценуплакатьразмазывать мыслипо блюдцукарябать вилкойзаматыватькрасноесинеетелочужой простынкойпросить – умолять – кричать – плакатьпотомприжиматься к единственно верномупапа!в фатиновом облаке скрытьсяладонь на лицоот светаа в двух шагах от тебяникому до тебя нет делаиюнь.лето.Стеклянный городстеклянный городя разбиваю твои мостовыепростив твоей воде милые безыскусные простыесныте что не повзрослели не заставляют боятьсяждатьсчастья на якоре посреди всего этого блядствавыживатьне просто не нужно не – возможно?простистеклянный городя разбиваю твои мостывыложенный по кирпичикамбастионв мой детский, синий-синийпрозрачный сонмне странно холодно страшнозябну – жуть!стеклянный городзакупорил мне кварцем легкиене вздохнутьв темную воду уходяттонутстонутфонарине томи враг мойдруг мойстеклянный городотпустиребенок проситне дай сломать егоотпусти допрежь[4]покуда чист неиспорчен светел свежты ведь знаешьстеклянный городлогос вреткладет замусоленную облаткув детский ротне плачь мальчиконо вечно – Божьеписаное от рукистеклянный городпожалей меняпо-мо-гиДушиГород пустел. Килограммами снегаБились в нещадно промерзшие окнаРуки чужие фотонами света,Души домов разрывая на стекла.Небо акрилом щурилось в лужи,Тени бросая под прутья трамвая.Звезды горят стетоскопами в души —Души людей в поисках рая.Чаши весов – однозначное бремя,Лики божеств темно-красной подводкой.Души вечны. И стирается времяВ бледный фантом уходящего года.ПеременнаяБесконечность неверна в системе пяти уравнений.В тебе больше вопросов, чем можно логически высчитать.Даже если принять за константу доказанность мнения,Что в итоге достаточность счастья сумеется выстрадать —Я устала ломать твои рамки и ждать снисхождения,Слишком хрупки границы очерченных набело графиков.Я еще бы надеялась (вдруг) на твое появление,Колдовала б возможность блаженств по твоим фотографиям,Не искала пути отступлений и верила в лучшее,Абсолютность значения «вместе» взяла бы за верное.Только ты – это дело счастливого все-таки случая…И ты просто не можешь остаться.Ты – переменная.СказочникОбними меня, сказочник,Дай прикоснуться к счастью,Растревожь мне дыханиеЯростным светом моря.Оттого ль невозможность тебяРазрывает меня на части,Что тебе я сдалась без всякойВойны и боя?Я в мозаике цифр гадаюТвои рассветы,Я зову твою небыль,В пепел сжигая связки.Обними меня, сказочник,Мой неразумный, где-тоЗаблудившийся мойВ апогей ненаставшей сказки…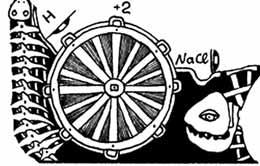
II. Про то и про это
Юрий Максименко

Александр Галяткин
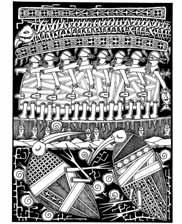
Люба Лебедева

Евгений Вишневский

Юрий Максименко
Беларусь, г. Гомель

Нос в командировке
Нос там, нос сямОднажды Нос, сбежавший от коллежского асессора Ковалева, явился к графу Алексею Толстому и стал жаловаться на Гоголя: мол, и общество у него дурное, и достаток низкий, и пишет он всякие несуразности… И предложил свои услуги автору «Гиперболоида» и будущего «Золотого ключика».
– Возьмите меня, светлейший граф, не пожалеете.
– Зачем вы мне нужны? – недоумевал писатель. – У меня и собственный нос имеется. Он-то чует за версту, что с вами, уважаемый, связываться не стоит: если вы бросили Ковалева с Гоголем, то где гарантия, что вы меня не кинете?
Нос заглянул в рукопись «Золотого ключика»:
– Вашему Буратино я был бы незаменим…
– Не суйтесь, куда вас не просят, – сказал Толстой и выставил Носа за дверь. С тех пор его видят в Петербурге то там, то сям. Говорят он работает «литературным негром» у разных писателей. А когда наваял Брежневу «Малую землю» и «Целину», Николай Васильевич восстал из мертвых, схватил Носа в передней у очередного работодателя да и поволок за собой. Но время от времени призрак Носа видят то там, то сям. И не только в Питере…
Нос у зайцаОднажды Церетели в страшном сне привиделся гоголевский Нос, скачущий верхом на будущем известном скульпторе. Проснулся он в холодном поту и… побежал в мастерскую. Неделю не выходил из нее – сваял трехметровую копию серебряного зайца Фаберже. Путину дарил, Лужкову дарил, мэру Нью-Йорка дарил – все вежливо отказались. И только мэр Баден-Бадена не смог выдержать напора Церетели. С тех пор исполинский заяц стоит там. Говорят, в ненастную погоду у зайца появляется статский советник Нос и криво ухмыляется, глядя на церетелиевскую громадину.
Нос в командировкеМайора Ковалева однажды спросили:
– А где же ваш Нос, милостивейший сударь?
– В командировке, – не задумываясь ответил Ковалев.
Нос в отсутствии ХлестаковаОднажды Нос поехал по России-матушке – в командировку. Остановился в одном заштатном городишке, вышел в ресторацию и нос к носу столкнулся с Бобчинским и Добчинским.
– А что, братцы, – спрашивает, – есть у вас приличные места, где можно отобедать?
А Бобчинский возьми и ляпни:
– Конечно! Например, у городничего нашего Антона Антоныча.
– Надо бы к нему визит нанести намедни, – сказал Нос.
А Бобчинский с Добчинским помчались к городничему быстрее ветра:
– К нам едет ревизор! К нам едет ревизор!
Незамеченный никем Хлестаков в этот день отобедал в нумерах тремя корочками хлеба…
Нос во всероссийском розыскеОднажды коллежский асессор Ковалев пришел в гости к Гоголю и пожаловался, что у него нос пропал. Рассмеялся Николай Васильевич: «Может, ему у вас между глаз скучно стало и он по Питеру решил прокатиться… Ну пропал нос… Эко горе, эка невидаль… Вот если бы от вас голова ушла… А нос – не такая уж важная птица!»
Возмутился Ковалев: «Как же не важная? Вон народ сколько пословиц и поговорок сочинил о нем. Не стал бы он о пустом месте так много говорить…»
– Неужели много? – не поверил Николай Васильевич.
А Ковалев считает да пальцы на руках загибает:
– Всякая птица своим носом сыта. Это раз… Этот нос для двоих рос, а одному достался. Это два… Куда шестом не достанешь, туда носом не тянись. Это три… Не тычь носа в чужое просо. Это четыре…. Кабы у дятла не свой нос, никто бы его в лесу не нашел. Это пять… Береги нос в большой мороз. Это шесть… Сметлив и хитер – пятерым нос утер. Это семь… За спрос не бьют в нос. Нос не дорос, руки коротки… Нос с локоть, а ума с ноготь… Ну итак далее…
Рассмеялся Гоголь и говорит:
– Ладно, объявлю я ваш нос во всероссийский розыск… Нет, лучше в мировой.
И сдержал слово – написал повесть «Нос», которая прославила не только Ковалева с его частью лица, но и самого Николая Васильевича.
Санчо Панса, Санчо Пушкин и Дон Кихот
Лане Побалуй с благодарностью за вдохновение и творческий азарт.
Рыцарь похмельного образаДон Кихот проснулся с похмелья, но в хорошем настроении.
– А что, друг мой Санчо Панса, никаких подвигов не осталось, которые бы я не совершил ради прекрасной Дульсинеи Тобосской?
– Не осталось, – говорит Шурик Панса. – Мельницы вы все в окрестностях по пьяни поломали. Рогатый скот весь в виде овец и прочей живности в ущелье посбрасывали. Винные бочки все продырявили. А вчера встретили некоего Сервантеса, так ему такого о Дуське из Тобоса наговорили, что бедный писатель вместо пера за сердце схватился…
Загрустил Дон Кихот. С тех пор его и называют: Рыцарь печального образа…
Мельницы сдаются без бояОднажды Дон Кихот был разбужен самым варварским способом – Санька Панса вместо петуха прокричал на рассвете:
– Вставайте, сударь, вас ждут и завтрак и… рассол.
– Так лошадь мою вроде Россинантом звать, – сказал печальный рыцарь, приходя в себя.
– Лошадь-то Россинантом звать, – согласился верный рассолоносец. – А вот вас как называть после того, как вы вчера всех гусей в округе истребили, когда сеньор Сервантес попросил у вас всего одно перо?
– И что же ты меня не остановил, паршивец?
– Остановил. Так вы на последнюю мельницу в округе набросились. Подняло вас лопастями вверх, а сеньор Сервантес закричал: «Сударь, сегодня вы на высоте!» Выматеритесь, а он хохочет да записывает, хохочет да записывает… «Пародию, – говорит, – пишу на рыцарский роман».











