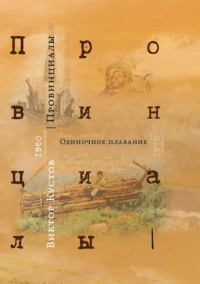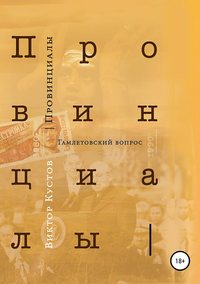Полная версия
По метеоусловиям Таймыра
Значит, классическая схема.
В крайнем случае, если я не прав – скажу, что проверка, подумал он.
Мысль была нечестная, нехорошая, недопустимая для человека, служащего закону, но Крюк постарался отмахнуться от неё, уйдя в технику проведения следственного эксперимента, обдумывая детали.
Так он дошёл до конторы и встретил осунувшегося, ещё более ссутулившегося мастера. Тот стоял у двери и так жалобно смотрел на Крюка, что он невольно похлопал Петухова по плечу, хотя это выглядело нелепо: Петухов был старше его вдвое, – и сказал:
– Зовите ко мне Зотова. С вещами. А остальные могут ехать домой.
– Зотов? – удивился Петухов. – Зотов… Ну что ж…
– Да, как там с вертолётом? – крикнул вдогонку следователь.
– Обещали после девяти.
– Хорошо. На вертолёте отправите тело Ляхова и меня с Зотовым.
Через несколько минут в вагончик вошёл Зотов, бросил в угол тощий рюкзак, посмотрел на Крюка долгим и, как тому показалось, сонным взглядом.
– Эх, начальник, – вздохнул он. – Верить бы надо. Я не говорил, что убил, а сказал только, что не успел. За это, я знаю, срока не дают.
– А ты, я вижу, Зотов, неплохо себя чувствуешь.
– Что мне расстраиваться, вы молодой, опыта мало, а дело, видать, первое, да поскорее раскрыть хочется, но там ведь в вашей конторе и другие сидят. А потом суд, а суду подавай неопровержимые доказательства, их-то у вас и нет. Так что посижу. Обидно, конечно.
– Зотов, скоро вертолёт будет, на нём и полетим. А пока можешь всё написать. Чистосердечное признание…
– Нечего писать, начальник, нечего, – сказал Зотов и закрыл глаза.
Крюк постоял над ним, потом сел за стол и стал смотреть в окно на буровую, падающие вниз трубы и поднимающиеся облачка дыма над лебёдкой. Он увидел, как на буровую поднялся Мокин, прошёл к лебёдке, Свиридов вышел в проём, прикуривая папиросу, а у рычага остался Мокин, опустил пару свечей, лихо, со свистом, потом спустился и пошёл в сторону конторы. И чем ближе он подходил, тем яснее Крюк понимал, зачем он сюда идёт, и всё поднимался и поднимался над столом, забыв, что Мокин тоже его видит, видит его глаза, и, когда Устин подошёл к окну, Крюк рванулся к двери, распахнул её как гостеприимный хозяин перед долгожданным гостем – Ждали, – выдохнул Мокин. – Пусть Женька идёт, там автобус ждёт, значит, ехать ребятам надо.
– Иди, Зотов, – сказал Крюк, хотя этого делать не полагалось, не он подчинялся этому человеку, а этот человек ему и даже не подчинялся, это был его враг, убийца, его соперник, которого он обыграл.
– Мокин, – сказал, выходя, Женька. – Устин… Зря ты…
Что зря, он не договорил, махнул рукой, пошёл, размахивая рюкзаком, и вышедший следом Крюк видел, как у автобуса его окружили мужики, заговорили о чём-то, покуривая и поглядывая в его сторону.
Он понял, что они ждут чего-то от него. Вернулся в вагончик, оглядел Мокина. Тот был спокоен так же, как ночью.
– Садитесь сюда, – сказал он, показывая место за столом. Поправил стопку чистых листов, положил ручку. – Пишите, как всё было. Пишите, Мокин. А я пойду с вашей женой поговорю.
– С женой не надо бы, значит, – просяще произнёс тот.
– Не могу, – развёл руками Крюк. – Обязан, гражданин Мокин, поговорить.
Мокин сел за стол и, опустив голову, начал писать.
Стараясь не замечать ждущих глаз мужиков, следователь Крюк прошёл к женскому вагончику.
Татьяна Львовна лежала на своей постели, закутавшись в одеяло и невидящим взглядом упираясь в стену. Она не заметила прихода следователя, не ответила на его «здравствуйте» и никак не отреагировала на то, что он опустился около неё. И только когда Крюк после долгого молчания решил было выйти, подозревая, что с женщиной что-то произошло, она повернула голову и тихо сказала:
– Спрашивайте.
– Ваш муж там пишет, как всё случилось.
Татьяна Львовна кивнула, словно так же хорошо знала, что делает её муж, как и Крюк.
– Он убил его, – сказала она.
– Он убил Ляхова? – переспросил Крюк.
– Его никто не понимал, его никто не знал, не хотели понять, считали злым, чёрствым, а я… я его любила… Он не такой был, понимаете, не такой, как перед всеми. Он просто уже не мог с ними иначе…
– Успокойтесь,– погладил её Крюк по руке, которую она тут же спрятала под одеяло.
Он подумал, что Татьяна Львовна намного моложе своего мужа.
Её лицо не утратило ещё девичьей свежести, и только черты его несколько покрупнели.
– Не надо меня трогать, не надо… Я всё сама расскажу… Я никогда не любила мужа. Мы из одной деревни, жили через несколько дворов. Он старше на одиннадцать лет. Первая жена его бросила, сбежала, а через два года, я только школу закончила, меня сосватали. Не пьёт, не курит, мама уговорила, как за каменной стеной будешь, зачем тебе на судьбу гадать да какого-нибудь пьяницу кормить, иди… Я и пошла, не знала, что такое любовь-то… Только вот с Витей… Он такой был, потому что не любил себя… И людей не любил… Он мне такого порассказывал про всех, а сам мучился… Сказал, что не может больше на буровой, что боится сорваться, что-нибудь натворить, подраться. Что возьмёт отпуск, а потом он должен был за границу ехать. Договорились, что через неделю мы встретимся, он обещал отвезти меня к своей матери, оставить там, ехать за границу с законной женой, а вернувшись, развестись. Говорил, что мать поймёт нас и поможет мне… Я… я плакала, когда он ушёл, тяжело было… А потом пришёл Устин. Сдёрнул меня с постели, ударил… Я закричала, а он сел вот так же, как вы, и сказал, что ненавидит меня, что всю жизнь я ему сломала. И ушёл.
– Больше он к вам не заходил?
– Нет… Но я слышала, как он ходил возле вагончика.
– Татьяна Львовна, а когда вы узнали, что он…
– Я чувствовала, что-то случилось, но поняла до конца, когда нашли… Виктора.
Она уткнулась в одеяло, сдерживая плач, её грудь то поднималась, то опускалась, и Крюку стало неудобно сидеть, задавать вопросы этой женщине.
Он хотел сопоставить то, что услышал сейчас о Ляхове, с уже известным и не мог: так это запутывало такое простое поначалу дело, и он понимал, что если попытается докопаться до истины, то потеряется в этих поисках…
– Виктор хотел извиниться перед всеми, начать жить иначе, – сказала Татьяна Львовна после паузы. – Он хотел признаться в своих махинациях и мастера. Говорил, что не тот опасен, кто грешит на виду, а тот, кто втайне и кто, осуждая грех, постоянно соблазняется им. Он Коробова называл лжеправедником. Он не любил студента за его послушность..
– А Зотова – за непокорность, – вставил Крюк и пожалел об этом.
– Вы не поймёте, – сказала Татьяна Львовна с болью в голосе. – Его никто не хочет понять…
– Я понимаю, Татьяна Львовна, вам тяжело сейчас: Ляхов, муж…
– Муж?.. У меня нет мужа.
– Сколько вам лет? – неожиданно спросил Крюк.
– Двадцать четыре.
– Татьяна Львовна, сейчас вертолёт будет, если хотите, вы можете попрощаться с мужем.
– Нет, – твёрдо сказала она. – Если вы хотите мне сделать добро, разрешите увидеть Виктора…
– Хорошо.
С тяжёлым сердцем возвращался к Мокину следователь Крюк.
С какой-то непонятной для самого себя виной перед этой женщиной.
Из объяснения Мокина Устина Евсеевича, 1945 года рождения:
«Я узнал о своей жене и Ляхове несколько недель назад. Ляхова ненавидел, но не думал, что убью его. Сначала я хотел уйти от жены, но не смог. Я узнал о Ляхове, потому что она называла его имя во сне. С Ляховым больше работать не мог, хотел уйти с буровой, но решил подождать, пока он уедет в Сирию, так как я привык к бригаде. Перед отъездом хотел поговорить с ним, предупредить, чтобы не вздумал возвращаться… В тот вечер я видел, как Ляхов пошёл к моей жене. И до конца смены думал лишь об одном, чтобы он никуда не ушёл, чтобы я встретил его у жены… Когда освободился, пошёл туда, но Ляхова не застал. Ударил жену. Пошёл к себе в вагончик, лёг, но спать не мог.
Проснулся Зотов, стал рассказывать про свой сон, глухаря, которого он увидел во сне, взял винтовку и вышел. Скоро вернулся, сказал, что никакого глухаря не оказалось, заснул. Я оделся, прихватил винтовку…
Я не собирался убивать Ляхова и объяснить, почему взял винтовку, не могу. Я шёл по тайге, было темно, я шёл и никого не думал встретить.
Одному мне было легче, чем в вагончике и на людях. Несколько раз обошёл вышку и вдруг увидел Ляхова. Он выходил из конторы. Петухов ему что-то сказал, и Ляхов стал ругаться. Я стоял и думал, что если Ляхов пойдёт в мою сторону, я изобью его. Но он обошёл буровую и стал подниматься на дорогу. Я пошёл к ручью. Сел на берег, сполоснул лицо, попил воды и увидел Ляхова. Он шёл в мою сторону. Я видел, как он нагнулся, долго пил. Я сидел рядом, метрах в пяти, но он не видел меня. Напившись, поднялся, пошёл вдоль ручья, перепрыгнул его и исчез, я пошёл следом и вдруг увидел его снова. И он тоже увидел.
Я вскинул винтовку. «Женька!» – крикнул он. Я выстрелил и промазал, хотя было очень близко. «Не надо!» – крикнул он, но я выстрелил второй раз, и он упал, пополз ко мне, шепча: «Не надо», – потом сорвался со склона… Когда я подошёл, он был мёртв. Вернулся на буровую, зашёл к ребятам. Хотел сразу сказать, что убил, но никто не спросил, что со мной случилось. Я не стал говорить. Потом ждал, когда его найдут, мне нужно было успеть поговорить с женой… Я многое понял, главное, что она меня никогда не полюбит… Записано с моих слов девятого сентября и мною подписано. Устин Евсеевич Мокин».
Автобус выбрался на грунтовку, когда над буровой появился вертолёт. Коробов подумал, что сейчас тот заберёт Устина, лейтенанта, труп Ляхова, понесёт свой груз в посёлок, с каждым мгновением удаляясь не только в пространстве, но и во времени, и каждое это мгновение будет постепенно отдалять пережитое, стирать в памяти неприятное, излечивать от непонятных угрызений совести, и скоро исчезнет и эта непонятная вина за равнодушие к живому и мёртвому…
Он посмотрел на Татьяну.
Та сидела, прижавшись лицом к стеклу, неподвижными глазами вглядываясь в осеннюю тайгу.
Студент завертел головой, толкнул сидящего рядом Лёшу-Правдоискателя, прошептал:
– Надо было остаться…
– Без нас справятся, – так же тихо ответил Правдоискатель. – Там Петухов, мужики… По-людски-то надо бы…
Анатолий отвернулся, искоса взглянул на Татьяну Львовну. Он жалел её и не понимал.
Устина ему тоже было жалко.
И Ляхова.
Выходило, что всех ему жалко, и он понимал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать.
Так, молча, думая каждый о своём, проехали полдороги. Поднялись на крутой изгиб, разрезающий скалу. Отсюда было видно далеко-далеко. Была видна тайга, широкая лента Ангары и дальняя сопка, за которую уходила железная дорога и где был их посёлок, их дом. И опять увидели вертолёт, беззвучно улетавший к сопке.
Коробов прошёл вперёд к двери, достал папиросы. Закурили и остальные, разгоняя дым рукой, поглядывая на Татьяну Львовну…
На станции сбросили рюкзаки в угол, до поезда оставалось два часа и все молча пошли в ресторан. Лишь Татьяна Львовна с автобуса не пошла со всеми, а по деревянным тротуарам стала спускаться от станции в ту сторону, где виднелась река. Каждый проводил её взглядом, и каждый подумал одно и то же. И только Коробов, ни к кому не обращаясь, произнёс:
– Надо было бы приглядеть за ней, мало ли…
И Лёша-Правдоискатель, ни слова не говоря, пошёл следом.
…Лёши не было долго. Стали собираться уже к поезду, когда, наконец, он пришёл.
– Нет её нигде, – сказал он. – Значит, так и надо, значит, зачем же мешать…
– Иди ты… со своей философией, – не выдержал Коробов, и Цыганок тоже покачал головой:
– Не прав ты, Алексей, может, ей помочь нужно было. В горе человеку человек нужен…
Правдоискатель обиделся:
– Я, что ли не понимаю… Только некоторым в одиночестве лучше…
Не сговариваясь прошли в ресторан, заказали по сто граммов.
Выпили молча, не чокаясь.
За помин одной и за спасение другой души.
…На полустанке Сосновка было пустынно. Светились несколько далёких окон да фонари на главной улице. На перроне, кроме дежурного, виднелась тонкая девичья фигурка.
– Люба! – крикнул Анатолий, спускаясь по ступенькам.
Он помахал рукой, и девушка в ответ помахала и пошла вслед за вагоном.
Не ожидая, пока поезд остановится, Анатолий спрыгнул на перрон, обнял худенькие плечи, вдохнул пряный запах волос.
– Я по тебе соскучился, – прошептал он.
Не стесняясь подходивших мужиков, она обняла его за шею, поцеловала, и, взявшись за руки, они побежали вперёд.
– Я тебя каждый день ждала, – прошептала она…
– Нас-то уже отвстречались, – сказал Лёша, глядя им вслед.
Пройдя площадку перед переездом, стали расходиться.
Махнул рукой Женька, подался к себе в общежитие.
Потом свернул Цыганок. Стукнул в маленькое окно покосившегося белёного домика, куда четыре года назад попросился на ночлег, да так и остался. В окне показалось женское лицо и исчезло, звякнул крючок, и Цыганок вошёл в настоявшееся тепло.
– Не ждали, – широко улыбаясь, сказал он, сбрасывая рюкзак и стягивая грязные сапоги.
– Ждала, Ванечка. Умывайся, я тебе сейчас щей налью…
Правдоискателя его дом встретил тёмными окнами. Прежде чем подняться на крыльцо, он обошёл его, поправил выпавшую из отверстия в завалинке тряпку, потом стукнул петлёй по скобе. В доме было тихо, и он стукнул посильнее. Послышались шаги, завизжала дверь в сени, потом звонкий голос жены спросил:
– Кто там?
– Это я,– буркнул Леша.
– Алексей?
– Я.
Что-то загремело в сенях, жена зачертыхалась:
– Подожди, сейчас.
Он сел на крыльцо. В доме скрипели двери, визжали половицы, а он сидел на крыльце, смотрел на звёзды и ничего этого не слышал. Он думал, что, может быть, где-то там далеко, всё же встречаются души тех людей, которые умирают, и, может быть, сейчас туда добирается душа Ляхова. Он представил, какой долгий и трудный путь это, и пожалел идущих по нему.
…В это время подходил к своему дому Коробов. Около ярко горящего окнами дома Ляхова он замедлил шаги. Там слышались голоса и надрывный женский плач, и он, опустив голову, прошёл мимо.
Возле своего дома опустился на скамейку, достал папиросу.
Где-то играл баян. Тоскливая тягучая мелодия плыла по сонной улице, и Коробов подумал, что вот отчего-то и баянисту не спится, тоскует его душа, ищет выхода, рассказывает об одиночестве. Ему захотелось узнать, кто это играет, увидеть этого баяниста, поговорить с ним, может быть, рассказать многое из того, о чём он никогда никому не говорил и, наверное, не скажет… Но тут вспыхнул свет на веранде, вышла жена.
– Я думала, сегодня не приедешь,– сказала она.
– Как пацаны?
– Спят, что им сделается. Выбегались за день.
Ждали – нет, хотел спросить Коробов, но только вздохнул и пошёл следом за женой…
В степи
– Равняйсь! Смирно!
Комбат, впечатывая шаги в бетонные плиты плаца, пошёл вдоль строя.
– Та-а-ак… – он остановился. – Это что за партизаны?..
По шеренге прокатился смешок, но тут же стих.
– Что за сброд! – повысил голос комбат. – Ну-ка, подтянуть ремни!
Застегнуться…
Он уставился на парня обмундирование на котором готово было вот-вот лопнуть на крепких мышцах.
– А это что за гондон?..
В строю хохотнули.
– Отставить!.. Этого переодеть, – обернулся комбат к старшине. -
Найти всё по росту…
Через пару шагов вновь остановился.
– А это что за чучело?..
– Папаша,-подсказал кто-то.
– Папаша?.. На гражданке папаша – здесь рядовой.
– Ага, – буркнул седой мужчина с нависающим над ремнём животом.
– Не ага, а как?
– Так точно!
– Ещё не забыл… – Комбат оглядел шеренгу. – Что приуныли? На сорок дней от баб оторвали, не выдержите?
– Не-е… – прокатилось по шеренге.
– Кто это не выдержит, два шага вперёд… Кастрируем, так и домой не пожелает вернуться.
Комбат выждал, пока хохот стих.
– Полтора месяца отдохнёте от баб, от водки, здоровее будете.
– Сено косить надо, – вполголоса произнёс папаша.
– Сено? – крутанулся комбат. – А Родину защищать не надо?
– Так не от кого же пока.
– Вот именно, пока… – Комбат вскинул голову. – Отставить разговоры! Жаловаться можете взводным, они пусть мне попробуют. А кто особо жалоблив, того могу на пару месяцев задержать. Всё. Направо!
Шагом, арш!.. По машинам!
Цокая по плацу неразношенными сапогами, колонна затрусила к машинам.
Третий взвод разместился на пятой машине. Взводному уступили краешек скамейки у борта.
– Поехали! – зычно крикнули на первой машине, и кузов дёрнулся.
– Дрова что ли везёт…Водила, его душу…мать…
– Эй, полегче, постучи там ему по кумполу…
Машина, ещё раз дернувшись, остановилась.
– Ну, чего стучите? – недовольно выглянул из кабины безусый солдат-срочник.
– Полегче, сынок, полегче, – сказал ему седой мужчина. – Людей всё же везёшь.
Солдат поморщился. Ничего не ответив, захлопнул дверцу, но поехал медленнее, притормаживая на выбоинах.
Выехали за посёлок.
Проскочили километров двадцать по асфальтированной дороге, потом голова колонны круто свернула в сторону, спряталась в густом облаке пыли.
Теперь трясло нещадно. Взводный – молодой лейтенантик, получивший звание после военной кафедры в институте и не служивший в армии, сидел рядом с седым мужчиной, и когда на ухабах их бросало друг на друга, извинялся. Новоиспечённые солдаты матерились и торопливо курили, вдыхая вместе с дымом колючую пыль. У взводного першило в горле, но он стеснялся кашлять и жалел, что не курит и не умеет забористо выражать свои эмоции.
Наконец машина остановилась.
Солдаты, не ожидая команды, попрыгали вниз, отошли подальше в степь и завалились на хрустящую от пыли и жары траву.
Командир третьего взвода побежал к головной машине, где комбат уже что-то приказывал, отсылая офицеров энергичными движениями руки.
– Первый взвод первой роты, стройся! – закричали впереди.
– Второй взвод…
– Товарищ майор, а нам что делать?
Комбат оглядел взводного с головы до сапог, задержавшись на пилотке, погонах и ремне, взгляд его был холоден.
– Завтра в четырнадцать ноль-ноль ко мне с уставом, – сказал он. – Заправьтесь, и обратитесь, как положено.
Лицо взводного покраснело, он опустил глаза, поправил гимнастерку под ремнём, подобрался и неловко вскинул руку:
– Товарищ майор, командир третьего взвода второй роты лейтенант Кирилов. Какие будут приказания?
Комбат поморщился.
– Идите к взводу и ждите.
– Есть.
Кирилов резко повернулся и трусцой побежал к своей машине, чувствуя спиной презрительный взгляд.
…К вечеру расставили палатки. Их ровная линия прострочила брезентовыми куполами низину между двумя сопками. Задымила полевая кухня.
Со списком в руках Кирилов обошёл палатки третьего взвода, знакомясь с личным составом. Это были люди различных профессий в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, для которых на полтора месяца он становился командиром и которые, независимо от возраста, характеров и гражданских должностей, на этот же месяц становились его подчинёнными.
– Товарищ лейтенант, ещё бы матрасик, – попросил папаша, который, как уже знал Кирилов, был механизатором Владимиром Степановичем Щетининым. – У меня радикулит, а от земли всё-таки тянет.
– Я узнаю, – пообещал взводный.
– Нам бы ещё водочки, – сказал Стеклов, тот самый, которого комбат приказал переобмундировать. – Как положено по прибытию. – И с насмешкой посмотрел на Кирилова.
– У меня нет, – растерялся тот. – Я спрошу, и, если положено, принесу.
– Вот это дело, взводный, вот это по-нашему.
Пока солдаты строились на ужин, Кирилов тихо спросил у ротного, старшего лейтенанта Горбунца, на гражданке – старшего научного сотрудника, отслужившего в своё время действительную, о водке. Тот по-товарищески посоветовал интеллигентскую мягкотелость на полтора месяца оставить.
– Держи их на дистанции, – сказал Горбунец, – иначе сам за водкой бегать будешь.
– Постараюсь, – пообещал Кирилов.
После ужина опять построили всех на проверку.
Комбат сам обошёл все роты, отсутствующих записал в книжечку, пообещав приплюсовать к их службе ещё сорок дней, и скомандовал отбой.
…Проснулся Кирилов от близкого гудения машины. Казалось, мотор работал над самой головой и он, лёжа с открытыми глазами, долго ничего не мог понять.
Рядом зашевелился Григорьев, командир второго взвода, что-то невнятно сказал, сел на нары.
Приподнялся в своём углу ротный, выматерился вполголоса и стал натягивать штаны.
Кирилов в темноте нащупал сапоги, всунул босые ноги, вышел вслед за ротным.
Рядом с соседней палаткой, чуть не касаясь её колёсами, стоял «Урал». В свете его фар Кирилов увидел солдат, размахивающих руками, потом кого-то вытащили из кабинки и стали бить. Ротный побежал к машине, но, не выходя на свет, остановился, придержал за руку Кирилова.
– Не лезь, – сказал он. – За дело бьют.
Били пьяного прапорщика, вытащенного из-за руля «Урала». Покачиваясь, тот закрывал лицо и поскуливал.
– Ишь ты, гад, чуть не подавил всех, – выкрикнул Стеклов и, не сдерживаясь ударил прапорщика по скуле так, что тот свалился с ног.
Солдаты рванулись в лежащему, но вперёд вышел Щетинин, раскинул руки.
– Хватит, – сказал он. – Поучили и будет. – Повернулся к Стеклову. -
А ты машину отгони в сторону да заглуши.
– Ладно.
Горбунец кашлянул и вышел на свет.
– Что случилось? – строго спросил он. – В чём дело?
– Да вот, поучили тут одного, – отозвался Щетинин. – Прапор пьяный, чуть не подавил всех.
Прапорщик поскуливал и пьяно ругался.
– Но руками, как я понимаю, никто не трогал. Сам неудачно упал, – многозначительно произнёс Горбунец. – Отгоните машину и сделайте так, чтобы никто её больше не завёл. И спать всем.
Солдаты стали расходиться.
Стеклов отогнал «Урал» подальше от палаток.
– Осуждаешь? – спросил ротный Кирилова.
Тот промолчал.
– Где работаешь?
– В конструкторском.
– Понятно. Год назад закончил?
– Ага.
– Не женат?
– Женат, – Кирилов почувствовал, как щекам стало жарко, и торопливо попросил:– Дайте папироску.
Горбунец протянул «беломорину», Кирилов прикурил от его огонька. Во рту стало горько, он прокашлялся, помедлил и отбросил папиросу в сторону.
– Не курю, – признался виновато. – Почему-то вот попросил… Месяц как женился… Она ещё учится, диплом будет скоро защищать, а я… а меня вот сюда…
– Всего месяц назад?
– Да.
– Не повезло, – вздохнул Горбунец, – не повезло тебе, лейтенант… Хотя мне тоже. Жена через две недели рожать должна. Второго сына жду, а тут… В резерве вроде был, да как водится – в последнюю минуту знакомый военкома остался, а я пошёл. Хорошо, тёща приехала, поможет.
Ротный помолчал, потом вошёл в палатку, и Кирилов слышал, как он, тяжело вздыхая, лёг на нары.
На следующий день с запада потянули низкие тучи. Они всё наливались чернотой и наконец прорвались холодным дождём. Сильнее подул ветер, и к вечеру стало не по-летнему прохладно. Комбат уехал в посёлок в часть, оставив за себя командира первой роты – кадрового старшего лейтенанта Григорьева. Он, отменный строевик, участвовавший в нескольких парадах на Красной площади, прослуживший после училища три года в московском гарнизоне, не знал, что делать, и солдаты, предоставленные самим себе, в палатках играли в невесть откуда взявшиеся карты или дремали.
Среди ночи стало ощутимо холодно. Первым оделся и залез под одеяло с головой Григорьев, потом Кирилов. Дольше всех крепился Горбунец, но в конце концов и он не выдержал. Дрожа от холода, Кирилов вспомнил Щетинина и его просьбу о матрасе, которую он так и не выполнил. Подумал, что навсегда потерял всякое уважение со стороны солдат и решительно полез с нар.
Заглянув в палатку отделения Щетинина, он долго привыкал к кромешной темноте, пока не различил фигуры спящих солдат. Они лежали на середине, оставив с краёв пустые настилы, прижавшись друг к другу так, что трудно было определить, где кто.
Кирилов вышел под дождь, добежал до своей палатки и, стуча зубами, полез под бочок к ротному, недовольно ворчащему что-то неразборчивое. «Завтра отнесу свой матрац», – решил Кирилов…
С утра небо посветлело, но ненадолго, снова собрался дождь и Григорьев тоже уехал в посёлок, оставив за себя Горбунца.
После обеда привезли шинели и одеяла.
Кирилов сам отнёс два одеяла Щетинину.
– Ну что вы, товарищ лейтенант, – сказал тот, по-хозяйски разглядывая и ощупывая новую шинель. – Мне тут и так уже ребята понатаскали.