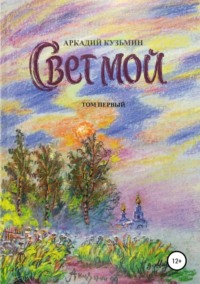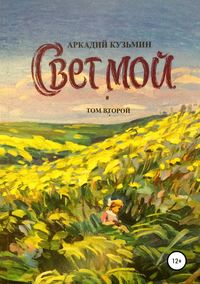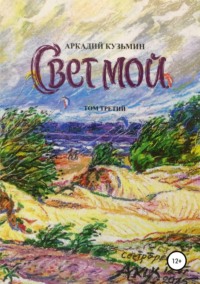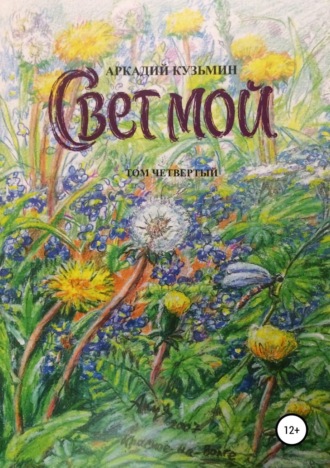 полная версия
полная версияСвет мой. Том 4
Так лучше всего перенести все болячки и несносности жизни.
Ночные звуки в палате разносились разнообразные: кто невообразимо храпел со свистом с перерывами, кто, ерзая в постели, скрипел пружинами кроватей, кто заходился застарелым кашлем, кто разговаривал во сне и ругался. А с утренним пробуждением прибавились новые: у кого уже трезвонил мобильник с будильником, кто-то включил жужжалку-электробритву и начинал бриться, кто-то шумно глотками пил воду прямо из большой бутылки, кто-то проклинал такую жизнь, когда все время давит тяжесть на одно плечо при двустороннем воспалении легких. Медсестры зазывали на процедуры. Кто ворчит:
– Вот закрывать двери – кого научить? Лежи тут – и нюхай туалет!
А иные больные и днем тянут сон: похрапывают, невзирая ни на что.
Включается разговор:
– Я двустороннее воспаление легких схватил – откуда? Спрашивается.
– А у меня зубы повываливались вдруг. Один за другим. почему? Их не чистил? Соляную кислоту пить для желудка когда-то мне врачи прописали…
– Да, откроешь рот – скворечник.
– Какой скворечник? Целая скважина! Вся еда наружу вываливается.
Все при ходьбе шкробают по полу тапками – ног не поднимают.
Есть больные донельзя исхудало-старые, а есть и толстые женщины, что тумбы; есть и женщины игриво ведущие себя, желающие и тут покрасоваться, что ли, на публике, несмотря на возраст.
Общалась пара милых старичков: посетительнице было 83 года, а больному мужу, что лежал в постели, – на 5 лет меньше; она же сама только что отбухала по болезни 9 дней в этой больнице. Она сидела около его кровати и все советовала и напоминала ему, что надобно съесть, что надеть, какие лекарства принять. И слышались их обращения друг к другу: «Папочка, мамочка!» Врач полчаса осматривал, выслушивал его, и она, не умолкая, комментировала без конца; она все помнила: что температура у него за трое суток шагнула к 40 градусам, какие таблетки и когда он пил и заболел; помнила, что он 7 раз лежал везде в больницах, что вырезали у него аппендицит и что рука сломана – срослась негодным образом.
Она, старая, плясала, суетилась вокруг него, а он только протестовал:
– Ты сама посиди – не устала, что ль?
И уходить из палаты она не хотела, говорила-приговаривала:
– Я бы… можно тут останусь с ним на ночь? Правда не знаю, как улягусь в одну кровать.
А на прощание слышались громкие поцелуи в щеки, в голову. Муж на это немного сердился и сопротивлялся.
На другой день обозначилась почти такая же пара стариков: она, как наседка, кудахтала около него, а он лишь капризничал:
– Да я пойду сейчас на улицу. Где мои ботинки?
Она укладывала его на чисто постеленную постель, а он все, порываясь, привставал. И она, уходя, уже от двери, держась за ручку, умоляла:
– Ну, Леша, Леша! Я пошла… Будь умницей… Ой!
А другая жена допрашивала старого инвалида, что был с палочкой:
– Зачем безрукавку надел? Переводят тебя, что ль?
– Нет.
– Так зачем надел? Холодно тебе?
– Нет, тут, в кармане деньги у меня.
– Подумаешь! Они ж не пропадут тут.
– Да я вниз иду. Купить мне кое-что надо. – Уже злился старик.
– Я устала с тобой уже. Пойду! На-а – расческу, причешись!
И всякие житейские истории услышал здесь Антон во время своего вынужденного двухнедельного пребывания. После того, как врач отделения констатировала:
– Ну, значит, СПИДа нет, язвы нет, гепатита нет – будем делать пункцию (дырку в грудной кости). Но кость оказалась очень прочная. У нее сил не хватило, чтобы сразу проткнуть.
И потом на УЗИ – крутили, крутили…
– Печень, кажется, большая…
Когда Антон уходил отсюда, сорокалетний рыболов, мечтавший о рыбалке на Ильмене говорил:
– У кого одышка – хорошо пить барсучий жир. По 100 грамм. И сидеть дома, не выходить на улицу.
– Это что ж: надо поймать барсука – и убить его? – спросил кто-то. – Это же трагедия!
Антон безусловно хотел заменить порвавшийся пакет, купив нужный у торговки с рук возле станции метро, где такой товар продавался; однако ему не повезло: он, выйдя из автобуса, на площадке у газетного киоска почти уткнулся в двух молодцов-милицонеров, державших в осаде тучную торговку при охапке пакетов, которую, вероятно, как опасную особу, собирались сопроводить в ближайшее отделение милиции. За незаконную торговлю. То, что неподалеку автомобилисты сигали на красный свет, их совсем не волновало.
«Ну, дурью маются ребята, – с неодобрением подумалось Антону. – Всем во вред, назло. И мне – сейчас… Поборщики – у маленьких кормушек повыстроились…»
И только он подошел ко входу, как буквально подлетела к нему Маша, новая молодая, даже грациозная, в ореховой куртке, знакомая:
– Антон Васильевич! Здравствуйте! Как я рада видеть Вас!
С ней держалась небесноокая улыбчивая подруга. Это точно ангелы с небес спустились к нему, незаслуженному ничем такого отношения, их глаза счастливые светились молодостью.
И он пропустил их вперед при входе в вестибюль метро.
– Вы куда, Антон Васильевич?
– В центр. Везу рисунки – уже оригиналы – в Петропавловку. Но извините. – Он развел руками перед ними. – Я упал, порвал пакет…
– О-о! Не думайте… У меня есть запасной. Сейчас я дам Вам его. Пожалуйста! – Маша протянула ему пакет с серебристым отливом, запечатанный буковками.
Маша, по сути первооткрывательница, как искусствовед, его особенности живописца, всегда, сколько он знал ее после знакомства, была сама естественность и доброжелательность.
– А Вы куда и откуда? – спросил он.
Это был как дар небес: внезапное появление таких неожиданных бескорыстных молодых друзей. Какая-то новая порода не только ценителей искусства, но и смысла жизни. С ними, Антон чувствовал, и рождались с новыми задатками спасители человеческих отношений. Можно учить этому бескорыстию других.
Отстаивать грешное – грешником станешь.
Общаясь с девушками на ходу, Антон обрел способность быть самим собой; нашелся, что сказать, как бы объяснился:
– Я потому с этим вожусь, – он показал пакет, – что мне это до сих пор интересно – преображение лица природы под кистью, что и получается.
– Да Ваши картины достойны быть в музеях, – говорила убежденно Маша.
– И мне очень понравились, – добавляла ее подруга, Настя. И маме моей.
Они спускались в зал по эскалатору.
– Ну, полноте! Вы преувеличиваете. Увольте!
– Поверьте! Это так. Головы у искусствоведов забиты новомодными инсталляциями. Все обменники ими забиты – не разбирают их художники после выставок своих.
– Уф! Язык можно сломать – коробит это слово – кличка антирусская; безрукие дизайнеры его придумали, верно. Ну, горе-художники и сто лет назад пытались вместо того, чтобы рисовать, подвешивать к полотну кирпичи и веревки, – ведь это вещественней, рельефней… И ненужно умение в рисовании…
– В общем мы ваши поклонницы и сторонницы, пишите на радость…
– Верю вам! Люблю вас! Я осознаю ответственность за то, что мой пейзаж за меня никто не напишет. И он будет узнаваем, мой! Неприглашенный.
– Да, когда смотришь на Ваши картины, будто чувствуешь себя внутри изображения – столь понятно и убедительно написано. По красочности и по композиции.
Антон приостановился в зале:
– Потому, сестрички, я и пейзажиствую, что кому-то и вам моя живопись люба. Кстати скажу: я всегда занимал свое место, а ничье чужое; ради этого никому не мешал, не расталкивал никого локтями кормушки ради. Я спросил на днях у одного молодого инженера, играющего в массовках в кино немецких солдат (он покупает по дешевке мои пейзажи – приезжает ко мне с матерью) – я спросил откровенно:
– Скажите, мои пейзажи вам не надоели?
– Что Вы! – Удивился он. – Утром глаза открываю, сразу вижу Вашу баньку у себя на стене, вокруг нее, вижу, льется свет. И сразу на душе хорошо становится. Нет, это не может надоесть…
Вот вам похвастался. Извините. Каюсь!
– Мы слушаем Вас.
– Я почему расхвастался? Вы теперь – лучшая замена для меня моих бывших друзей-фронтовиков. Новая поросль – я вижу – славная, открытая, идущая вперед. Мне сегодня снился мой друг Махалов, фронтовой разведчик, юрист и художник, мальчиком занимавшийся в изостудии Дворца пионеров.
Ему снилось, что он забрался неведомо каким образом на некую немыслимую высоту, отсюда пытался еще забраться повыше. К облакам была приставлена какая-то хлипкая лесенка, наподобие той, какую он прорисовывал некогда на форзаце к объемной книге с библейскими рассказами о святых. По лесенке этой он взбирался еще выше, чтобы увидеть, что за ней находится; он упрямо лез, соскальзывая и не видя того, что хотел увидеть. А голос Махалова как бы остерегал его: «Смотри не упади!» И падал в каком-то фигуральном смысле, потому как под ним, под его ногами круглые ступеньки крутились. «Смотри не упади!» – говорил ему голос. А кто-то прокомандовал: «Оставь эту высоту – фуфло! Не раздражай бабулек!»
И что означал этот очередной сон, что-то упреждающий, он не смог разгадать.
Они сели в вагон электрички и договорились встретиться на выставке.
VII
И другие голоса вскоре слышались: «Ты где? Я выхожу из метро». Шла молодежь, не глядя под ноги себе, с мобильниками в руке наперевес.
«Ну и пусть будет это жанр для любителей изнанки. Но причем тут мы, живопись?»
«Видишь, молодые неолибералы сильно раскрутили рулетку вседозволенности. И слаб человек. Он хочет жить наотмашь, вопреки всему, всем возможностям».
Интуитивно по размышлению Антон нашел, что иначе и быть не могло. Его электронный поезд ушел, помахал ручкой ему. Он, Антон, не приспособившись, отстал от него; он-таки не принимает жизнь такой сегодняшней, расхлистанной, а она не принимает его целиком с его понятиями и привычками, с его щепетильностью. Щелкает по носу уже с другой, несоветской стороны. Щелкают те мелкие неисправимо тщеславные недоброжелатели, которых уже наплодила борьба за права человека; они, самовыдвиженцы, вызвались быть судьями всего богоугодного – костлявые немощи…
И думал он и о себе не менее критично:
«Жизнь поток случайностей и закономерностей. Как себе велишь поступить, так и будет ответно. Речь не идет ни о каком смирении души. Смирение рознь насилию. Нравственному. В нас темное вещество Вселенной – что это такое? Ученым пока неизвестно. И космос куда-то сдувает солнечную пыль… А движение – процесс везде неровный, идущий рывками… На свои работы чаще смотришь строгими чужими глазами и ужасаешься им: ну, где же, голубчик твои шедевры? Столько ползал с красками везде – одна жалость… то, что намазал… Ведь не летал…
Может, все-таки моя писанина-проза даст ответ обнадеживающий? Успею ли? Узнаю ли?»
Так он шел к Петропавловке с рисунками. Среди других идущих.
На Заячьем острове, за Кронверкским проливом, в Петропавловской крепости, было бело, божественно тихо; снежная пороша осыпала деревья и крыши желтых приземистых зданий, тонувших в сугробных наносах.
Странное чувство возникло у Антона: он здесь не случайный турист, а гражданин отечества; он соучастник общей его истории, которая в немалой степени, если не целиком, коснулась его семьи и его самого. Вплотную, можно сказать. С избытком. Здесь жила своей жизнью эпоха царей, декабристов, революционеров, которую и трогать-то нельзя, безбожно, и потом продолжалось новое время, в которое и он жил вместе со всеми, как обычный соотечественник, по-своему достойно.
Если выйти за ворота – на причал – на Неву, то отсюда видны Эрмитаж и Исаакиевский собор; где-то за ними – и Мариинский театр, по сцене которого очень-очень давно разбежалась (на глазах Антона и Ефима Иливицкого) балерина… Старое сказочное время. История не полна без участников ее.
Нынче в «Печатне» Антон нанес литографским карандашом на тяжелые известняковые плиты зеркальные рисунки зимних Петровских ворот и зимнего Казанского собора. Осталось ждать, когда они напечатаются.
Знакомый приятный художник детских книжек Л., зашедший по делу в «Печатню», спросил у Антона, не могли ли у Кости Махалова сохраниться какие-то оттиски с гравюр из альбома очень известного советского офортиста, с собранных досок которого и печатался альбом. Предполагалось снова собрать хотя бы оттиски. Этого Антон не знал. Но обещал созвониться с сыном Константина.
«Печатня» издавна функционировала в Петропавловской крепости – в двухэтажных помещениях Невской куртины – как особый организм, не подверженный влиянию моды, настроениям, стихиям. Сложилось так, что у художников, всегда опекавших ее вроде бы по негласному призванию или завещанию судьбы – с заветом: ничего не портить и никому не мешать, а только помогать всем скреплениям человеческим в жизни, здесь, под старыми кирпичными сводами, покоились старенькие печатные станки и сотни литографских известняковых немецких камней, отшлифованных, завезенных сюда (закупленных) еще за десять лет до революции. И то, и другое еще работало по старинке. Мастера трудились над литографиями, печатали их; дети приходили заниматься – садились нетерпеливо за столы и старались сами напечатать свой рисунок, радуя родителей, и пачкались черной краской. Вход сюда был бесплатный для всех. Совершенно заповедный уголок, придававший Петропавловке наш исторический колорит, – и стены, на которых экспонировались графические работы всех лет, плакаты и открытки, и свод, и все содержимое. Это же история! И здесь проводились экскурсии, связанные с живописью, графикой, недоступные другим (и великим) музеям. И все-то можно было тут же приобрести многочисленным туристам – гостям города.
Антон также здесь выполнил и напечатал несколько литографий. Уже работал над следующей.
Только – увы! – он застал в этот раз служителей «Печатни» погрустневшими. Они сообщили ему, что их вольницу закрывают: был некий комиссар из Смольного, осмотрел все и заметил: «нерентабельно». И тут кто-то из чинов взобдрился: «Ну, и я так могу литографировать». Для народа, для гостей все теперь и здесь будет платным. А машины и камни уберут…
– Прекраснейший летний пейзаж! – воскликнул Антон однажды, сидя на стульчике и рисуя в курортной зоне Сестрорецка, – так встретил идущего снизу от светлокаменной котельной, должно, водопроводчика, в черной куртке, делового. – Сливочный разлив полей, с одуванчиками; черный развал по нему дороги, кружева серебряных ив.
– Конечно, прекрасный вид, знаем, – согласился тот гордо за вотчину свою. – Не иначе. И графика может быть отличная у того, кто умеет держать перо. Одни ивы чего стоят. – Поздоровался – и прошел дальше.
Сразу вспомнились Антону перьевые рисунки китайской тушью Пчелкина – необыкновеннейшие дубравы и лощины Дальнего Востока!
Сколь же самобытен и удивителен наш народ! А некоторые либералы силятся отнять у него право восхищаться прекрасным и подсунуть ему некую небыль, мертвечину, воспеть ее для него. Антон был всегда непреклонен: в нынешних пристрастиях к переоценке всего живописного творчества нет его углубления, а только попытка подстроиться под чьи-то вкусы. Для кого? Для элиты? А разве она появилась у нас? Есть? По-моему, доморощенная фикция. Танцуют искусители от новомодного, только и всего. Раньше мужчины брили бороды, теперь небритые – с щетиной – ходят героями. Гераклами.
На одной пейзажной презентации Антон, вспомнив что-то из былого, упомянул и фамилию Иливицкого, своего бывшего сослуживца, отчего обе молодые служительницы библиотеки тотчас странно оживились, что он вопросил озадаченно:
– Что: Вы знаете его, Полина? Да?
– Конечно же: он – читатель наш, – пояснила Полина готовно-весело. – Живет он по-соседству – рядом.
– Ну, фантастика: услышать весть о нем такую! Вот мы столько лет кружимся около друг друга; но, поди, уж четверть века я не видел его, не слыхал о нем. Прослужили вместе мы три года и еще сколько-то лет продолжали, как художники, прежнее знакомство, поддерживали друг друга; а затем общались лишь на лекциях, на работе, соприкасались постоянно, не дружа. Потом и с работой разъединились, что говорится, насовсем.
– Бывает, что ж. В жизни нашей. Дерганной.
– Мы, Полина, сами ее дергаем. Так что же, он, Ефим, и выставляется, верно, у Вас, как я понял, коли Вы смешинку проглотили, услыхав о нем?
– А то как же, Антон Васильевич, он показывал свои плакаты и рисунки дважды.
– Выходит, он опередил меня? Я оплошал здесь?.. Ну, ему-то есть что выставить. Рисовальщик он отменный, и он не бездельничал никогда. Мы вместе с ним и институт полиграфический закончили – на смежных факультетах… И он не рассказывал обо мне?
– Нет. У нас таких бесед с ним не было.
– Ну, у нас с ним, видать, взаимно…
Антон, вначале обрадованный неожиданным известием о Ефиме, бывшем одессите и товарище, возмечтал о возможной встрече с ним, поскольку его адрес имелся в библиотеке на читательском абонементе и стоил бы по-приятельски пригласить его на выставку, оживить воспоминания. Но он все-таки по размышлению такую мысль отбросил: между ними уже не поддерживались большие приятельские отношения, какие сложились у Антона и его близких друзей, которых уже нет.
Нашелся и главный аргумент в ненужности их встречи: жизнь Ефима внешне была неким повторением Антоном и снова заглядывать в нее, знакомую, ему не хотелось. Их амбициозная карета давным-давно уехала. С грузом нерешенных забот, интересов, проблем. И то ведь справедливо: Ефим нынче, наверняка зная об этой выставке Антона, живя поблизости от нее, мог бы и откликнуться. Но и он промолчал. Тоже уже не проявил интерес к его персоне. А работы друг друга они прекрасно знали, видели.
И он нем Антон потом услышал в радиопередаче, слышал его еще крепкий басовитый голос. Узнал, что он в последнее время сочинил спектакль. Это Люба, услыхав его, позвала Антона на кухню послушать радио.
Да, карета их уехала. Нужно уступить дорогу молодым! Впрочем Антон не раз уступал ее и молодым сотоварищам. Не заумудрялся в творчестве.
Так это легко – не досаждать ничем друг другу.
VIII
Апрельским утром глаза слепил иссиня-белый снег, выпавший ночью; сахарная россыпь легла вокруг кирпичного здания санатория в Стрельне, придав всему и словно распылив и в воздухе божественность: смотри и чувствуй это!
Антон, внутренне дрожа, вышел с синим пакетом (с красками) и складным стульчиком наружу – на уже оголенное синюшное шоссе и повернул к северу – к еще ледяному заливу; ему хотелось по-быстрому написать масляной пастелью открытое пространство – без зарослей и построек; он не был готов к тому, чтобы вырисовывать бесчисленные веточки, хотя сейчас фиолетовые кружева заснеженного боярышника и мраморные крылья сосен на фоне розоватого неба выглядели очень впечатлительно. Пахло свежими огурцами.
Он по-тихому собрался в номере, не тревожа напарника Сивкова.
Ни живой души нигде пока не виделось: никто еще не выполз из постели теплой. Лишь черный прикормленный кот вновь гулял себе – отряхивал лапки-подушечки от липкого, уже подтаивавшего снега. Этот кот было последовал за Антоном, верно, надеясь получить угощение, но, не получив от него ничего, отстал.
У залива же, там, где выпуклый деревянный мост навис над льдистой еще речкой Стрелкой, отороченной ивняком, вдруг сошли навстречу Антону супруги Незнамовы: полнолицая Элла и поджарый Вадим, его новые знакомые пенсионеры по столованию, сторонники, как оказалось, его живописания. Даже и более того: Элла Леонтьевна, узнав, что Антон художник, упросила его дать ей уроки рисования; она всегда мечтала о том, чтобы ей рисовать, да не было у нее на то свободного времени.
– Вы – молодцы: раньше моего уже прогуливаетесь, – похвалил он Незнамовых, поздоровавшись и узнав их.
– А то! Мы туда, за мост, прошли; там тростник торчит, камыш на припае, – пояснила Элла охотно.
– О, это значит мой объект. Потом там посмотрю. Я сначала на глазок, что говорится, прикидываю, выбираю. Бывает: облюбуешь чем-то примечательное место и толчешься-вьешься вокруг него с разных сторон нацеленно.
– А сейчас что хотели изобразить?
– Да хотел, Элла Леонтьевна, кусок залива написать, верней зарисовать в альбом. Вот эти вмерзшие суденышки, лодочки, какую-то черную трапецию с черной трубой и наползающую синеву туч. И этот прижатые к берегу кустик. Да бьет в глаза, ярчит от снега, белизна. Мешает мне. Все двоится в глазах. И пастелью нужно в помещении сладить, поскольку зрение у меня очень ослабло. Нечетко все вижу, признаюсь. Уже записан в очередь на хрусталик. В Федоровской больнице.
– И я тоже записан. – Сказал Вадим. – В Озерках. Очередь через полгода.
– У меня примерно такой же срок. Жду – не дождусь, не привык писать без натуры: она сама подсказывает краски, экспрессию…
– Я-то вожу автомашину. Для дачи она очень необходима. Так что нужно оперировать оба глаза.
– Я бездумно запустил этот процесс. Мне-то нужно было раньше обеспокоиться. А как? В свое оправдание скажу, что когда уже пользовался очками плюс три с половиной-четыре, обратился к окулистке в поликлинику. И она-то, наверное, толковая, знающая, находясь в зрелом возрасте, два года назад мне сказала наотрез: «Приходите через год. Будет хуже, направим на операцию». Через год и направили. А в больнице еще год и больше нужно стало ждать, когда прооперируют. И мне никто не сказал, что если бы я сам оплатил, то мне сделали бы операцию почти сразу. И сам я не был столь расторопным…
– Ну, мужчинам свойственно мало о себе думать, – вставила Элла Леонтьевна.
– Знаете, думы нас не спасают, если хирург в поликлинике мне сразу говорит: «Что же Вы хотите – это у Вас уже застарелое, неизлечимое». Когда я открытку рисую, ее пять инстанций утверждают – полный контроль за качеством. А кто контролирует качество лечения в стационаре? Ответа нет.
Действительно, зрение у Антона ослабло настолько, что он, например, уже не мог – и при помощи очков – разглядеть номер подъезжавшей маршрутки – не успевал – для того, чтобы вовремя попросить остановить нужную, как та проносилась мимо. И номеров домов уже не различал, если оказывался в нововыстроенном районе города.
Что это: было его оплошностью? Неоправданным незнанием? Но ведь он всю жизнь работал глазами: на бумаге бесконечно вырисовывал карандашом, пером и кистью мелко детализированные сюжеты. Прежде это делалось без помощи компьютеров.
Таков, видимо, удел его.
– Остережений за жизнь не напасешься.
– О, да! – Сказали в два голоса Незнамовы.
– Что же, други, теперь я повернусь – пройду в южную сторону; там что-нибудь ухвачу, что найду, – решил Антон.
Шоссе великолепной синюшной стрелой упиралось в отдалении, возвышаясь, в усадьбу, окружавшую Дворец Петра I.
«И это стоит написать, – подумал он. – Необычен сюжет. Сколько ж их! Всю жизнь не переписать!»
– И мы с Вами прогуляемся, к Дворцу Петра Первого. Возьмете? – спросила Элла.
– Да ради бога! Буду рад! Идемте. Я настырный, верно, в своем деле.
– Ну, скажу, настырность везде нужна, носи ее с собой всегда; а мужчина не всегда в ладах с ней, когда это касается его самого, – заметила Элла опять.
– Да и женщины тут схожи, – сказал Антон. – Бывает.
– Не спорю. О, если бы я знала, что мне нужно именно так сделать и поступать и кто мне подсказал, – я бы сделала это, а так – сама по себе – никак не могла и не могу решиться на что-то лучшее. У меня вся семья филологи (были) – отец и мать. Так что закончила университет филологом и стала им, можно сказать, по традиции семейной, особо не раздумывая, копаясь в бумагах, в книгах.
– Ну, если это душе угодно.
– Люблю копаться в бумагах. Сидит в крови. А как быть дальше, иначе – не знаю. И мой отец – был большой человек, мог бы устроить меня в штат получше, но из-за принципа честности не мог. Тем более для родной дочери. Считал, что это зазорно, предосудительно: а главное – не обязан родительски…
– Дескать, я карабкался в свое время, теперь карабкайтесь и вы, детки молодые? – Сказал Антон. – Обычный жест консервативных родителей.
– Нет, он так не считал, верно, а только вот такой особенный – не продвинутый, как нынче говорит молодежь. – И Элла добавила: – Мне нравится эта часовенка святого Николая Чудотворца. Вы ее уже зарисовали?
– Да, есть набросок у меня.
Они как раз проходили мимо белокаменной часовенки в одно окошко, стоявшей на западном берегу реки Стрелки, среди зарослей ив.
Элла по молоду, как призналась, занималась в кружке рисования, так что имела некоторые его навыки. И Антон для начала дал ей задание нарисовать хотя бы яблоко с натуры, вписав его в лист бумаги.
Они миновали по дороге и конусообразный памятник погибшим в 1943 году десантникам. Сюда проводились экскурсии.
– Наш сын в Афганистане служил, – сказала Элла. – Нам, родителям, это стоило многих болей и потрясений. Он был ранен. В Ташкенте его госпитализировали. Но только он подлечился – и еще не окреп, как военкомовцы опять направляют его в Афганистан, и он не может перед начальством постоять за себя. Его устрашали тыловые офицеры. Мол, если будешь рыпаться перед нами, то мы сделаем так, что ты и мать родную забудешь…