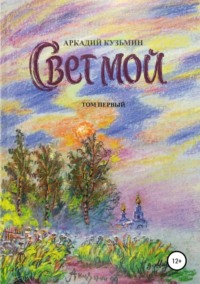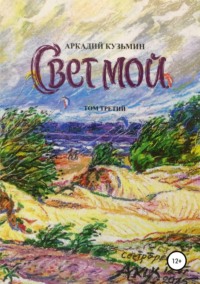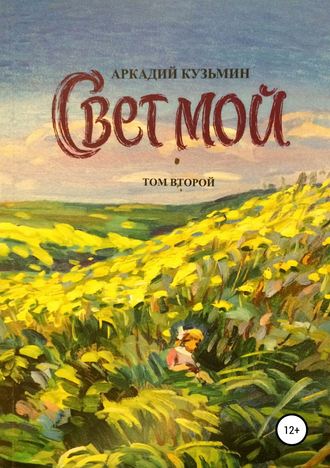 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
– Мы еще о чем-то думаем, чтобы что-то не испортить, – сказала Татьяна Васильевна. – Моя знакомая любит присказать о себе: «Я такая несчастливица!» Она – красавица, но не в ладах с логикой. И ее муж всегда просит ее – если они идут в какое-нибудь общество: «Раиса, ради бога, только молчи!» Так вот ей принадлежит один афоризм: «Боже мой, в воскресенье – и надо думать!»
VII
Поселковые бабки-посиделки, прилипшие к площадным скамейкам, под липками, судачили, как и на всех летних крымских торжищах:
– Нет, лучше мужиков пустить. Не надо им ни чай кипятить, ни есть, ни стирать, ни спать; довольствуются только коечкой – себя не ублажают.
– Ну, не говори. Бабы все же чище, себя лелеют. А те еще красоток приведут. Как ни строжай, ни ругайся, – все равно приведут. Это все мужики такие охочие. Что с них взять? – И даже косились на похаживающего здесь в раздумье Ефима.
– Бабка, что сдаешь? – Два бойких парня выросли. – Девочек водить не будем. Жить будем смирно.
– Мы знаем, голуби: оне сами к вам придут без вашего приглашения. Пойдете во времянку?
– А где, бабуся? Далеко?
– Тута. Недалеко от берега.
– Заметано. Согласны.
Ефим еще слышал обычно-несерьезные препирательства женско-мужские – от прохожих:
– Господи! Как бы я хотела пожить одна! Так вы все мне надоели…
– Мечта идиотки.
– Не идиотки, а все женщины мечтают об этом…
– Ну-ну! Ведь обратно прибежишь…
И вспоминал то, как он познакомился с Настей.
Послерождественским вечером он вышел на остановке из трамвая, как навстречу ему летела со всех ног девушка, которая не удержалась, заскользила в сапогах на образовавшейся наледи, и он удачно, крепко поймал ее на лету, удержал.
– Извините, спасибо, – прощебетал около его лица ее милый голосок, когда он разжал правую руку, которой удержал ее, – в левой он нес портфель, и она рванулась к дверце трамвая. Но уже не успела: дверца закрылась.
– Меня извините: задержал Вас, – сказал Ефим.
– Тогда бы я упала на лед. Я очень испугалась. – Она была в пуховой белой шапочке, в меховом пальто, – пухленькая, свежая, с румянцем на щечках, с вопросительным взглядом сияющих смеющихся глаз. С симпатично-ласковой улыбкой на губах.
– Куда-то опоздали?..
– Куда молодость зовет…
– Значит, для Вас важно.
Они легко разговорились, познакомились. Оказалось, что работали в соседних учреждениях. Отныне они, Ефим и Настя, как-то по-приятельски весело бегали обедать в шумную столовку, бывали в музеях, на концертах, на иных спортивных состязаниях. Она ему чем-то нравилась, была женственной, но держалась с ним независимо. И у них шло вроде бы негласное обыкновенное заигрывание друг с другом – и не поймешь, то ли с ее стороны, то ли с его. То ли следовало еще что-то важное подождать-подождать…
– И он, видимо, до того увлекся ею, что позабыл обо всем на свете, простачок, – съязвил рядом чей-то стеклянный голосок в момент, когда Ефим, задумавшись, чуть ли не прозевал Настю, вышедшую из остановившегося автобуса.
Он в первую минуту даже не узнал ее: настолько она похорошела. Она появилась перед ним – и какое-то праздничное чувство охватило его. «Как же можно пред такою устоять?» – грешным образом подумалось ему.
У Ефима с приездом Насти в распорядке отдыха кое-что усложнилось и разнообразилось, и он уже смотрел (норовил смотреть) на многое ее глазами и поступал в делах с учетом того, что он теперь не один, хотя оба они были, как уговорились вначале, совершенно свободны в поведении друг от друга, но старались прилежно, как на труднейшем экзамене ужиться здесь вместе. Однако они оба, кажется, понимали, что полдела было уговориться так; гораздо сложнее, конечно, было наладить вроде бы совместное проживание, пусть и, скажем, нейтральное, не определившись в чувствах к друг другу и в их неожиданных проявлениях. Так что несомненно они сближались между собой – к ужасу и одновременно радости Ефима – оттого, что у него, наконец, была друг-подруга. Тем более вникавшая в его рисовальные листы и проблемы, что вполне его устраивало. Так как всегда и всюду, куда б они ни направлялись – на пляж ли, в кафе ли, в кинотеатр ли, на базарчик ли, ехали ли в Бахчисарай, или еще куда, – он по-прежнему прихватывал и таскал с собой альбомы, мелки и карандаши и схватывал почти на ходу что-нибудь увиденное. В том числе и тело Настино, шоколадное, ладно сложенное, в розовых купальниках.
С равнодушно-заспанным выражением на лице Ирина, вторая жена гуляки-шофера Сани, жаловалась приезжим, что очень устает от работы поваром в гарнизоне, обслуживая военных: им, неблагодарным, ничем не угодишь!
Но святой сама Ирина не была: поддавалась лености, нерадивости охотно; практически не обихаживала мужа: не готовила ему, не гладила его рубашки. Шестнадцатилетний же ее сын Алеша (от первого брака) гужевался где-нибудь с ребятней день-деньской; прибежит он на кухню, схватит что-нибудь съестное из холодильника – и опять умотается.
Настю сразу же удручила запущенность жилья. В кухоньке, на полочке, среди всякого пожелтелого хлама, на куске обмылыша, приплюснулся и засох, как гриб, помазок, только как бы шляпкой вниз; стояла большая стеклянная банка с каким-то бурым вареньем, открытая, по всей видимости, полгода назад.
VIII
– Ну, давай наводить марафет, – прикинула, привздохнув, Настя и востребовала ведро, воду, тряпки и метелку, и немедля взялась за уборку помещения, отданного им двоим, и кухни.
Ефим сам когда-то регулярно драил цементный пол вместе с балтфлотцами в кубриках – драил по определенной системе. И теперь был приятно удивлен, как ловко и последовательно, закатав штанины, справлялась с метелкой и тряпкой – ловчее его – Настя, как умело, гибко, как разогрелась, разрумянилась… Вот что нужно рисовать!.. И заглядывался на ее отлично сложенную фигуру. Настя лишь подгоняла его:
– Вылей грязную воду – чистую принеси. А это – в беседку отнеси.
– О, какие молодцы! – восхищался Саня, особенно – Настей.
Под руками путался Вова, малыш. Приговаривал, как всегда:
– Уйди, дура! Дурная! – Замахивался рукой и притопывал ногой. И родителей его это очень забавляло. Они не ругали его нисколько. Хныча, он просил: – Папа, дай мне пива, дай! Ну, папа, дай пива! Привык любимчик к вседозволенности, к безотказности. И, видно, уже знал вкус напитка: попробовал. И не только пива требовал: – Дай красное!
– Красного, Вовочка, нету, – отвечал отец.
– У-у! – начинал хныкать малыш. – Есть, дай красное!
– Вова, смотри – книжка красивая.
– У-у! Не хочу! – И топал ножкой.
Тогда кто-то подсовывал ему шоколадку. И он на время успокаивался.
А в это время возле дощатой времянки грубовато-успокаивающим баском говорил своей тоже сухотелой молодой жене, обгоревшей, тихо охавшей, точно неоструганный чудаковатый харьковский парень в пестроклетчатой рубашке:
– Ну, деточка Тоня, терпи: у тебя еще не так, не так красно.
Она, вся сжулившаяся, слабо протестовала:
– Смеешься, Володичка! Я буду плакать! Могу только ползти на четвереньках: всю кожу на теле моем бедном стянуло – больно даже распрямиться мне.
– Тоня, ничего, терпи, – словно всерьез дурачась, приговаривал он на увеселение ахавших при виде ее отдыхающих. – Это-то полезно, полезно для твоего здоровья.
– Стойте! – вмешалась Настя. Прихватив баночку с простоквашей, подступила к обгоревшей. – Давайте вот намажу кожу кислым – самым спасительным средством; это сразу снимет, уменьшит боль, – Вы почувствуете, вздохнете… И как Вас угораздило? – Она аккуратно покрывала жидкостью ей шею, спину, руки. И все словно очнулись, затихли. И Тоня, дрожа лихорадочно, благодарила Настю взглядом.
– Володя, держите остатки! – напоследок скомандовала Настя, протянув ему баночку. – Потом, как подсохнет, еще намажьте!
И он подчинился, не гуторя.
И что дальше?
Назавтра пострадавшие молодые снова отправились на пляж. И, вернувшись оттуда, Тоня оживленно распространялась:
– Там я под простынькой лежала. Ничего! Уж нисколько не болит. Настя, посмотрите: что это такое? Ноги у меня разноцветные, синими кругами пошли.
Настя, взглянув на нее, ахнула:
– Тонечка, тут у Вас покоричневело, а тут покраснело…
– Вообщем, жареная говядина?
– Да, кожа слезет, должно быть…
– Ну, это еще что! Я один раз в деревне (в положении тогда была) обгорела так, что с места стронуться не могла, лежала и стонала. Просто выла от дикой боли – вынести ее не могла.
– Как же так, Володя, Вы – муж, не доглядели за женой?!
– Это хорошо! Солнечные ванны! Правда, Тоня? – басил Володя, прохаживаясь по двору. – Пусть будут черные пятна. Пусть! Не испугаемся. – И вдруг хлопнул рукой по перильцу крыльца. – Во-о! Убил голыми руками муху. Вчера бил газетой – ни за что не убил; сейчас же – фокус! – голой рукой сумел убить. Сам удивляюсь.
Все-таки как природа распорядилась: насколько они разные, настолько и похожие друг на друга. Отсюда – все.
Небеспристрастно глядя на этих молодоженов, Ефим не сопоставлял в какой-либо схожести свой и Настин характеры (не резон), но, безусловно, вел себя доверительно-сторожко в том, чтоб не досаждать Насте ничем, не доставлять ей никаких моральных мучений и, естественно, не пострадать из-за этого душевно и самому, вопреки взаимной доверительности. Тем более, что Настя с первых же минут своего появления здесь около него начинала нравиться бесподобно ему всем; она открывалась натурой мягкой, уравновешенной и сходчивой со всеми, чем располагала к себе окружающих сразу. Она желанно присоединилась к пляжной Ефимовой компании, нашла разговор и с Константином, и с Татьяной Васильевной, с которой успела познакомиться. И в особенности сдружилась с Надей, с которой они вместе брызгались и прыгали в морских волнах, болтали и играли во что-нибудь, и фотографировались, и постоянно поедали какие-нибудь фрукты, ягоды, приносимые с собой на пляж. Благо покамест погода позволяла.
Единственно, что стало утомлять Настю – беспокойная обстановка на съемной даче, а именно: ребячьи писки, визги, хмурость и нечистоплотность хозяйки Ирины и то, как нечисто поглядывал хозяин Саня. Он почему-то временно не работал, днями напролет обретался дома и в садовой беседке – с захожими друзьями; они втроем-вчетвером жарили шашлыки, пили вино, пиликали на гармошке и настраивали – прочищали свои голоса. И всенепременно зазывали Настю присоединиться к ним. Да и надоела ей какая-то поведенческая однотипность собственная.
А совершенно вывело из себя ее, Настю, и Ефима то, что Санюшка раз днем развел костер – сжигал садовые сучья и всякий хлам – под самым окном их комнаты, отчего она наполнилась дымом, и, главное, то, что костерщик не внял просьбе Ефима и не перенес костер на задворки, за беседку. Что он: будучи на взводе, хотел выкурить их из комнаты? За какие прегрешения?
Они вынужденно пошли в кинотеатр и там пересидели дымное выкуривание. После чего объявили Сане, что не могут больше квартировать у него. И переселились в дом к Гитиным, стоявший на параллельной улочке. Приморской. Среди деревьев.
Треволнений не было. Им все понравилось. И так продолжалось сколько-то дней.
IX
Довольные Ефим и Настя, выкупавшись и пообедав, и спасаясь от зноя, только что вернулись в прохладную комнату Гитиных и прилегли (он – на скрипучую раскладушку, а она – на высокую старомодную кровать), и взялись за недочитанные книги, как в белокрашенную дверь кто-то постучал. Настя досадливо, прикрывшись простынью, чертыхнулась:
– Господи, опять начинается!… Устала я от них! Да, войдите!
Поскребшись плечом о дверной косяк и качнувшись, вшагнул за порог Илья Игнатьевич, хозяин, гулявший эти выходные дни и посему не знавший, куда же ему деть столько свободного времени, – ведь кроме коллекционирования дефицитных художественных изданий он больше и ничем особенным не занимался дома: потерял к этому вкус. Лишь систематически возился с ловкостью заправского повара у кирпичной плиты во времянке (был им в прошлом) – готовил какое-нибудь кушанье.
По обыкновению он был раздет до пояса, – торс поджарый, мускулистый, загорелый до черноты; с красным скуластым лицом и отяжелевшими веками, он заискивающе улыбался, поскольку столь нетвердо держался на ногах. И сразу же, прямо у порога, опустился на табуретку, чтобы не упасть, – от греха подальше. А затем уж, виновато осклабившись, попросил:
– Можно мне поскучать вместе с вами? – И тяжело прикрыл глаза.
– Извольте, Илья Игнатьевич! – садясь на раскладушке, сказал Ефим с каким-то готовым вызовом, так как и Настя взглядом молила его: займись им, пожалуйста!
– Сегодня Катя собрала монатки и ушла куда-то. – Илья Игнатьевич поднял свои густоресничные веки. – Насовсем, кажись.
Шестнадцатилетняя Катя, его дочь, стала неуправляемо-капризной, вспыльчивой, что порох; она надрывно, с явным драматизмом, плача, носилась туда-сюда по дому и в окрестностях, точно забывая без конца по пути что-то очень важное. Моментально, влетая в комнату, перерывала весь комод или шкаф: искала что-нибудь потерянное, так необходимое ей, – то паспорт, то справку о прохождении производственной практики, то авторучку, то учебник какой-нибудь; доставала, чтобы тут же надеть на себя кое-как, впопыхах, лучшее платье или кофту, хоть и мамину – неважно. При этом истерично, не стесняясь никого, всхлипывала, страшно обиженная на свою судьбу, – что ей приходилось-таки еще учиться в школе, заканчивать десятый класс. Странноватые, необъяснимые поступки! Из-за чего и ее родителей нынче немало лихорадило – настолько, что те и не пытались утаивать такое неблагополучие, происходящее с их дочерью, от нежелательного постороннего глаза. Напротив, они словно преохотно делились этим бедствием со всеми: дескать, полюбуйтесь на сии капризы, перед которыми мы бессильны; мы-то абсолютно ничего от вас не скрываем, не намерены скрывать: что есть, то есть на самом деле.
– Вот характерец! – заудивлялась Настя, выпрямившись на подушке. – Ей бы парнем быть! А какому ковбою она, такая сумасшедшая, нужна? Никуда-то она не денется, попомните, Илья Игнатьевич. И Вы не расстраивайтесь понапрасну…
– А я спокоен. Совершенно! – И уже поразилась Настя его удивительному откровению в спокойствии, глядя на него, иронически улыбнулась:
– Что же, у нее завелся кто-то? Дружит с кем-то?
– Да имеется тут один, не без этого, – проговорил Илья Игнатьевич.
– Это кто же?
– Зимин, сынок тех, чей дом на горе.
– Боже! Да я видела его. В рубашечке пестрой? Простецкий?..
– Во, во!
– Да парень-то, видела, совсем еще мальчишечка глупый, серенький; только еще лохмы отрастил, как большой, и всего-то в нем мужского. И даже он росточком пониже ее. Что она – безглазая? Ей надо же мужчину, чтоб она по нем перестрадала вся, перегорела вся, а это ведь ничто для нее ровным счетом. Так ведь?
– Как-то Катя не ночевала дома, – сказал Илья Игнатьевич. – Я пошел к Коле. Утром. Вхожу к нему на кухню, а он сидит за столом и лопает картошку со сковородки. Сам, верно, жидок, а лопает, что бугай. Аж вспотел. «А Катя где?» – спросил я строго. «Не знаю», – ответил он. «Но она же с тобой была иль ты запамятовал ненароком?» «Была», – промямлил он. «Так где же она?» – «Не знаю. Я пошел домой, а Катя осталась там, в парке»… – «Вот ты уминаешь тут жратву, а она сидит там, голодная. Так у тебя-то, вертихвост безжалостный, совесть есть?» – «А я, дядя Илья, не просил, чтобы она приходила туда», – промямлил он свое. Нечего спросить с идиота этого. Только бы она не принесла кого в подоле… нам, родителям… матери…
– Нет, прежде всего, она себе принесет, – убежденно говорила Настя. – И, может, это ее научит чему-нибудь. Мне Риту, как мать, жалко. Ей тяжелей всего. Послушаешь – она с Катей разговаривает каждый раз как с подружкой – несолидно; сейчас они поссорятся между собой – сейчас же и помирятся; Рита чересчур отходчива, и Кате это только на руку: сполна она пользуется этим.
– Да, и Рите разок попало от меня за такое-то отношение, – признал Илья Игнатьевич. – Бил я Катю за вранье, так Рита дочку пожалела – стала защищать ее. Но той и битье уже ничуточки не помогает, ой!
Внезапно в комнату вошла также и черноволосая заплаканная Рита в пестреньком халате. Она присела на стул, запричитала со всхлипом:
– Катя школу совсем бросила, мне сказали. Взяла паспорт и сбежала куда-то в Ялту.
– Послушайте, Рита, да никуда она не денется, – зауспокаивала теперь Настя и ее, Риту. – Покрутится, покрутится – и вернется! Увидите…
С отчаянием Рита винила во всем беззаботность, недогляд мужа. Он пришел со стройки домой – поел, попил-напился, и все тут его домашние заботы; все заботное лежит на ней, как хозяйки очага, хотя она также на службе – работает в санатории не меньше его…
Ефим, ровно истукан, не мог сейчас ни посоветовать, ни вмешаться никак (что прежде он любил) в процесс выяснения дальнейших действий родительских – он испытывал неловкость оттого, что лишь сочувствовал всем персонам случившейся драмы семейной.
Казалось, что Гитины теперь как-то искусственно создавали проблему, в существовании которой почему-то хотели уверить всех, жалуясь на нечто неподвластное им. И вот пока они, супруги, незаглазно препирались, сюда вдруг вихрем вомчалась, объявившись, сама виновница семейного переполоха. Она, угловатая, резкая, не проронив ни слова, со злостью зашвырнула в ящик комода какие-то бумаги, с треском задвинула опять ящик на место. И ее родители даже не успели рта открыть, чтобы подступиться к ней с вопросом, как она взорвалась, что заведенная фурия:
– Надоели вы все мне! Надоели! О-о! – И ударила дверью. Застучала каблучками туфель, сбегая по ступенькам крыльца.
Все молчали подавленно. Рита вздохнула лишь обреченно. А Настя подумала про себя некстати: «Вот и перебрались мы от нерадивых хозяюшек»…
Как-то Ефим, сидя на институтской лекции, задумался о чем-то. Малорослая педагогиня со старой закваской, влюбленная в поэзию, увидав такое, затопала ногами и закричала на него, взрослого, так, что он в первый миг ничего не мог понять. Что: его непослушание взбесило ее? Неощущаемость времени – того, что все уже иные – выросли?
О чем же пустяшном тогда Ефим задумался?
Сейчас-то он понимал: вместо топанья и крика целесообразней решить, что делать дальше им двоим – ему и Насте.
X
Опять жара доставала. Во дворе, как веял ветерок, играя листочками, шевелились фиолетовые тени под кронами черешни и абрикосов, болтались между их стволов на проводах яркие полотенца и купальники.
Ефим засел на мягкий побуревший диван, под навес времянки, и, пока Настя внутри ее дремала, хаотично зарисовывал всякую всячину.
Воробьи с истошным чириканьем возились в ветвях и на замшелой черепичной крыше, наскакивая друг на дружку, и на земле, купались в пыли; они чирикали не однообразно, а словно как «вопрос-ответ», и то торопливо, то размеренно. А, взлетая, с такой силой отталкивались от сетки ограждений и проводов, что покачивало их. Здесь у них была явно игровая площадка. Шумливей же всех вели себя взрослые птенцы, взъерошенные, пищащие, скачущие повсеместно. Машущие крыльями; они требовали еду от воробьихи: раскрывали рты и обступали ее со всех сторон, не давая ей проходу. И были не такие уж пугливые (когда вся стая взлетала на кусты, они еще вольно прыгали по дорожкам).
Вообще все воробьи были задиристо-наглы – пытались что-нибудь ухватить из миски собачьей и склевать – под самым носом Марсика, маленькой белой, с черными пятнами, собачки, спрятавшейся сейчас где-то под крыльцом. Либо пытались они вселиться в ласточкино гнездо. Но ласточки, летавшие парами, вереща и влетая под карниз дома, под которым они налепили гнезда, с лету атаковывали непрошенных гостей и отваживали их.
Марсик, песик умный и обидчивый, забавный, с согнуто висящими ушами, потешно – по лисьи – всегда засматривал всем в глаза, повиливая хвостом. Ластился. И чесался. Ложился на спину, подняв лапки кверху: значит, давай почеши. Без толку он не лаял. Лишь лаял на незнакомых, на бегущего ввечеру ежа, на кота приблудного, на тетю неприятную.
В соседнем дворе, за малинником, слышен был увлеченный женский переговор, связанный с шитьем.
– Что ж, начали кройку?
– Вот глаз – ватерпас!
– Кто смел, тот и съел.
– Ну, ткань-то простая?
– Лен такой. Не гладится. Нет, ткань не простая; вот я постирала – и мне кажется: она полиняла.
– Да, вроде бы выцвела немножко.
– На однотонной все карманы, все швы очень заметны будут. Вот так пришьется. Машинка сделает петли. Отстегнул погон – и гладь. Будем, будем так делать, ты не волнуйся; на твоей машинке хорошо сделаю, поверь.
– Моя машинка погано делает.
– Не сделает погано, ручаюсь.
– А на этой машинке тоже петли можно?
– Можно. На моей машинке – только настроила, включила, она – ды-ды-ды-ды-ды – все пробила, прорезала.
– Этому материалу сносу не было.
– Он стоил какие-то рубли…
– Да. И рубашки мужчинам шили…
– Вот пришиваем до конца встык… Воротник будет вшивной. Сейчас посмотрим, как будет… Вера, у нас халат будет длинный. Сейчас кажу, на сколько он прибавится; пять сантиметров сюда, пять туда добавятся.
– Ага.
– Вот семьдесят пять… Видишь: какой?
– Это нормально.
– Если не будет отделки…
– Ну, с отделкой было бы лучше. Подождем тогда.
– Итак: одна, вторая, третья, четвертая… А это будет карман.
– Ну и все.
– Если поднажмешь… Зачем воротник? Надо рюшечку сделать… Чуть-чуть закруглить… Ура: получается! Что и требовалось доказать…
– Ну, все размечено. Давай и сделаем.
– Будем смотреть…
– С того конца нельзя вырезать. Где же нам взять?
– Потом разметим. Зелень должна быть с краю. Перед нельзя вырезать. Зад – тоже.
– Красивый будет халат. А папаня говорит: длинный не надо.
– Кляп с ним, с его указами! Мужья у нас – отставники. У меня мой суженый что есть, что нет – не сказывается; он-то может от голода умереть, хотя в холодильнике всегда полно еды. Ну, молодость не без глупости, старость не без дурости. Нет обязанности. Сын Виктор что мне говорит: «Вышел на двести метров за гарнизон – уже холостой».
– Ну, примерно так. Не успеют появиться здесь новички девицы, как угоднички уже лапают. По пляжу гуляют на разведке – отмечают: если она загорелая – отпадает: она уже давно пасется тут; если светленькая еще – годится: только что приехала; если неровно загорела – не годится: местная.
– Тетя, смотри! Смотри! – вскричала вышедшая за калитку у крыльца девочка-вьюнок Вика. – Марсик, делай, как следует! Тетя Рита, и ты смотри, как я его дрессирую. Марсик! Марсик! Нет, не слушается. – Она бросала наземь кусочки колбасы и смеялась: набежавшие желтые утята проворно кидались и схватывали их, а дворняжка медлила. Один утенок в схватке упал на спину и болтал лапками в воздухе – не мог перевернуться на живот. И тогда Рита подошла к нему и ногой перевернула его.
Утка-мать сама ничего не старалась съесть от утят.
– Драмаед ты! Я ж тебе бросаю, Марсик! – говорила Вика.
– Не драмаед, а дармаед, – поправила ее тетя Рита.
– Нет, драмаед! Дурак!
– Как она говорит!
– Драмаед! Драмаед!
– О, как вы шумите! – Выглянула за дверь бабка Варя в очках, держа перед собой журнал в руках. – Вот отошлю вас в Штильное.
– Ах, Штильное, Штильное! – запрыгала девочка. – Там коровки и лошадки есть!
– Позвольте… – подошел к крыльцу Ефим. – Штильное находится западнее Евпатории? Отсюда добраться сложно?
– Ой, проще пареной репы. У меня там сестра двоюродная живет.
– Меня попросили туда заехать… Там что… Можно отдохнуть?
– Богатое, чудное село. На самом берегу. Все есть. Вам понравится. Поезжайте. Я дам адрес. Привет передадите.
XI
Ефим определялся сам с собой: стоит ли теперь заглянуть и туда, в Штильное? Ведь сама Ниннель Никандровна, царственная и великодушная историчка, давняя подруга его тети, уважительно попросила его взглянуть компетентно, способный ли тамошний юноша (о нем написали ей) к тому, чтобы художничать и посвятить себя этому? И что Ефима окончательно сподвигло к решению пуститься по воле волн, он сам не знал и уже не слышал внутреннего голоса ни за, ни против. Он не копался в себе, не доискивался до тайных причин; но втайне предполагал, что это может понравиться Насте, ставшей, видимо, для него мотором перемен. Что ж, назвался груздем – полезай в кузов. Верно. И причем он и сам уже завелся, ровно малый: «И лошадок, может, порисую»…
И когда он позвал Настю поехать на недельку в Штильное, и она с радостью согласилась, сегодняшний день для него уже был в прошлом – он распрощался с ним, перелистнул его страничку.
Признаться, Ефим не жаждал заниматься дешевым благотворительством, каковое он и не мог дать никому (при своей шаткости, неуверенности в завтрашнем дне); что-то претило ему раскрывать внутренние объятия кому-то и проявлять радушие чему-то незнаемому, а познать что-то таковое он не спешил.